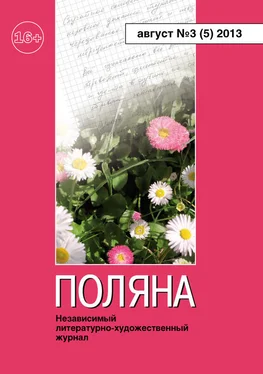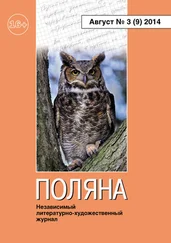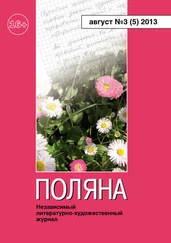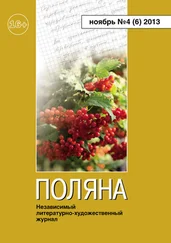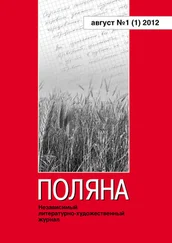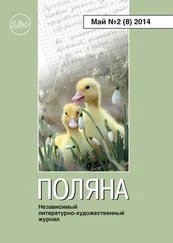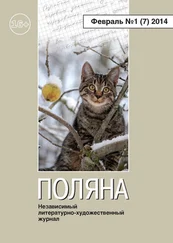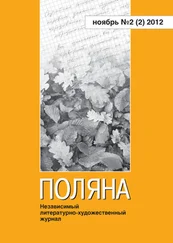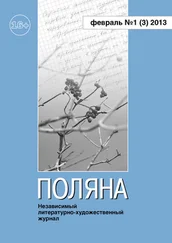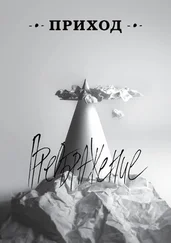И журавлиная степенная походка? —
расхваливает Цыганка самозваного жениха Подщипы немецкого принца Трумфа. Комментируя сходство реплик Лисицы и Цыганки, С. А. Фомичев пишет: «…здесь, как и в крыловской басне, нет, по сути дела, ни одного слова лжи, разве что подсюсюкивание (“носок, глазок, роток, бородка ”) и точный расчет на убежденность глупца в своих самоочевидных достоинствах» (курсив авт. – А. К) [70] . В целом справедливо, однако, различия сопоставляемых фрагментов не менее, а может, и более значимы – по крайней мере в плане изучения динамики роста поэтического мастерства Крылова. Реплика Цыганки – грубая, неприкрытая лесть и – тут никак не могу согласиться с комментатором! – именно ложь: и «личико другое так беленько» где-то есть, и букли потолще, и усы погуще можно сыскать, и косу длинней Трумфовой и т. д. Сами использованные в данном случае синтаксические конструкции содержат необходимость сравнения той или иной черты (свойства) внешности с подобными чертами других представителей рода человеческого, а в силу этого проблематичны и вызывают у адресата лести справедливое недоверие:
Так тфой не лицемеришь ?
И Цыганка вынуждена прибегнуть к дополнительной аргументации: Взглянись лишь в зеркало, так лучше мне поверишь.
Что касается «журавлиной степенной походки», то уподобление по природе своей указывает на определенную вторичность обладателя качества, эталоном которого считается его естественный, а значит, первичный, главный носитель.
А вот речь Лисицы и впрямь не содержит ни слова лжи, да и неоткуда ей взяться, ибо состоит она – когда дело идет о конкретных чертах Вороньей внешности – из назывных нераспространенных: «что за шейка, что за глазки!» – и, скажем так, «условно распространенных» конструкций: «Какие перушки! какой носок!». Определительные местоимения какие, какой по сути бессодержательны, а эмоциональное наполнение может трактоваться сколь угодно широко – восхищение, удивление, негодование, возмущение, осуждение и т. п. – точно так же, как и у частиц что за или ну и. Сказки же тоже можно рассказывать о чем и какие угодно… Расточаемые Лисицей похвалы в высшей степени двусмысленны, и потому Л. С. Выготский прав и неправ одновременно, считая, что плутовка откровенно и язвительно издевается над Вороной [71] . Прав – потому что как издевательство их воспринимает объективный реципиент, который ничего привлекательного в облике вороны не видит, неправ – потому что забывает об адресате лести. Но не так ли происходит и в реальной «человечьей» жизни? Со стороны лесть мгновенно распознает каждый, но устоять перед ней дано далеко не всем…
Подчеркну: отсутствие в Лисицыных приветливых словах конкретики в виде эпитетов и сравнений с кем и чем бы то ни было заключает важнейший для Вороны смысл: она
несравненна, неподражательна, единственная в своем роде, абсолютна, она не ВОРОНА и не ГОЛУБЬ, она – это только ОНА. Механизмом лести Лисица владеет в совершенстве: указывая на ту или иную черту облика «красавицы», она лишь катализирует появление в голове Вороны уже готовых «распространений»: какие перушки! – такие: блестящие, ослепительные, несравненные, умопомрачительные, изумительные, божественные…; что за глазки! – зоркие, очаровательные, прекрасные, влекущие, незабываемые… и т. д., и т. п. Кажется, именно по этой причине Крылов отредактировал 24-й стих, который в двух первых публикациях имел такой вид:
И, вздумав оправдать Лисицыны слова…
Вороне, конечно, нет никакой нужды оправдывать чьи бы то ни было слова – пожалуй, ей не так уж и важно, что слышит их от Лисицы, поскольку оглушена литаврами и медью собственной, внутренней «песнью песней», предметом которой, разумеется, является она сама – избранная ! – Ворона. Исключительно важна здесь одна, казалось бы, чисто физиологическая деталь:
От радости в зобу дыханье сперло… [72]
<���…> Ворона каркнула во все воронье горло…
Ворону переполнила радость, оттого и дышать стало невмочь, и единственным способом спастись от удушья становится громогласное КАРРРР! Все случилось буквально по Писанию: «от избытка сердца говорят уста» (Мф 12:34).
Что ж, как мы помним, Ворон у Тредьяковского был «без сердца мех» – у крыловской же Вороны сердце есть, иначе где бы еще Лисица нашла тот заветный уголок, в который сумела влезть!
На последний вопрос: почему размышления Вороны были не особо веселыми? – наверное, лучше всего ответит герой совсем другой – не крыловской – эпохи. Предоставим ему слово: «Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть, – прибавил он вдруг задумчиво, даже не в тон разговора». Читатель, конечно, узнал по этой реплике Родиона Романовича Раскольникова, так часто впадающего в задумчивость…
Читать дальше