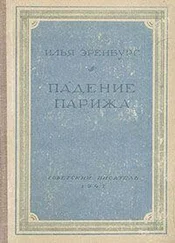Эренбург прожил удивительную жизнь.
Или так: удивительно прожил.
Или — грубей, но не менее верно: удивительно, что прожил. По законам времен, в которые он пришел, — то есть по нормам тогдашней нашей страны — он, конечно, был должен погибнуть. Неоднократно.
У него было два лица. Одно знаем мы так привычно, что только оно и возникает, когда произносят: «Эренбург». Официозный борец за мир в 50-е годы, в 60-е тоже; «Люди, годы, жизнь» — эпохальные мемуары; и записки о Европе, и трубка, и «Хулио Хуренито».
Другое лицо — его стихи.
Это лицо мы тоже как будто знаем. Как будто.
В юности, до революции, он отправился за рубеж. И жил там. Встречался с Лениным в эмиграции. Пил чай у него дома. Прозвище даже семейное получил: «Лохматый Илья».
В 30-е годы за это он крепко мог быть наказан.
Он мог быть расстрелян, как Михаил Кольцов, — за то, что он тоже писал об испанской войне, был там и видел правду.
И позже он много был за границей, и потрясающе был: в оккупированном немцами Париже.
Да за одни лишь свои ранние стихи — с религиозной атрибутикой, «декадентские» («Дико воют багровые фраки…») он мог быть зачислен в ряд ненавистных большевикам всех этих акмеистов-футуристов-будетлян-имажинистов — со всем, что следовало затем.
Что он писал в декабре 17-го?
Может, в эти дни надо только молиться,
Только плакать тихо…
А в 19-м, в Киеве он сочиняет трагедию «Ветер» — совершенно антиреволюционную. Не «контр-»; именно «анти-». Глубже.
Как уцелел?…
Занявшись романами и статьями, он оставлял в стихах непонятные критикам перерывы.
С течением лет он набрал литературный вес, перейдя ту черту, за которой деление на весовые категории уже прекращается.
Был ли он живым классиком? Кто-то считал — да. Иные возражали. (Хотя, казалось бы, тут не бывает двух мнений). В любом случае, был он одним из китов в советской литературе, заслуженным, увенчанным и маститым, — я пишу это, адресуясь к читателям помоложе, и потому подчеркну: «в». Он находился в советской литературе, он не был ею — ментально, вопросами души к миру, своим интимным «я» очень разнясь с соседями по шеренге — К. Симоновым, Н. Тихоновым, А. Твардовским, даже с В. Кавериным.
Эту разницу видела власть — и догадалась не уничтожить ее, а повернуть себе во благо. Для лицемерного государства И. Эренбург оказался подарком. Он стал обращенной на Запад витриной советской писательской жизни.
В витрине всегда все лучше, чем на прилавке, и выставляется то, чего не хватает в продаже. Так был выставлен он — умный, естественно интеллигентный, знающий по-французски и, годами живший в Европе, не по-советски в ней органичный; а главное — лично знакомый и дружный с теми, кого идеологи СССР, если б могли, стерли бы в порошок, но с кем было нужно считаться, чтоб слыть культурной страной. Будучи нашим, Илья Эренбург был одновременно частью Европы, и хотя б одного ещё такого у нас — не имелось.
Быть витриной, однако, — тем более, СССР — привилегия сложная, амбивалентная; и эта сложность дала собратьям по цеху повод хлестко его упрекнуть: «Мы верили и писали — а Вы не верили, но писали». В этой фразе были обида, сведение счетов и справедливая (или нет?) злость за то, что не мог Эренбург о себе сказать так, как сказал о себе Сельвинский:
…Всё на свете, дорогие, есть
— Нет только на мне живого места.
Давно утихли те бури, и знаменитый упрек — неактуален, забыт, и четвертый десяток лет пошел после смерти Ильи Эренбурга; и возникает сейчас — Другое лицо.
Может быть, мог он так о себе сказать? Кто, собственно, знает? Кто заглянул в пещеры души поэта?
Ибо сам он себя считал — поэтом. Это не домысел; было известно. Не публицист, романист, мемуарист эпохи — нет; не это лицо для него было его лицом.
Ах, как заманчиво было б найти, разгадать в его строчках годов 10-х или 20-х — одну — или две — ключ ко всем остальным, что он написал, кратную всем, источник для всех!.. Строку — его звук. Доминанту его души. Мелодию «я», что дается нам от рожденья, облекаясь затем оркестровкой пережитого.
Есть у него эта строка. У каждого Поэта она есть. И у Художника есть — звук его краски. И у Актера — звук взгляда.
Найдем — и тогда нам поймется многое. В нем.
Этот истинный его звук — принужден был слышаться реже, чем он хотел. Годами он не включал свою мелодию и, бывало, публично отказывался от прозвучавшей. Она с чем-то не совпадала — с чем-то сильным, что было вне.
Читать дальше