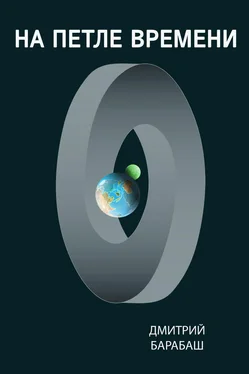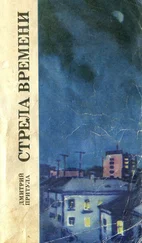Почти нешуточная драма —
француз, безумие, дуэль.
Как свет на холст киноэкрана,
ложились тени на постель,
на силуэт в свечном испуге,
на женский всхлип и вьюги вой.
Из-за кулис, ломая руки,
кто потешался над собой?
С улыбкой левого прищура,
сурово целя правый глаз,
наш вечный гений, мальчик Шура
героя вел в последний раз.
Он видел точно – песня спета,
куплет – в куплет, строка – в строку.
И дальше этого поэта
не примечают наверху.
Он доиграл земную драму,
отмерив ямбом жизни срок.
Как лучше выйти? – Через даму.
И раствориться как дымок.
Пускай потом земля гадает,
как зная все про страсть и пыл,
он роль до пули доиграет.
Герой, которого убил.
Поэзия – это самый дурной и неудобный способ
выражать свои мысли.
Пушкин… как киргиз, пел вместо того, чтобы говорить.
Лев Толстой
Как все срастается на плоскости —
сюжет расчерчен по прямым.
Какой кошмар – в преклонном возрасте
почувствовать себя Толстым.
Давно пора играть с объемами,
вплетать в пространственный узор
эпохи с пестрыми коронами
восходом выкрашенных гор.
Земля из трубочки горошиной
летит в замыслимую даль
среди травы, давно некошеной
и узнаваемой едва ль.
А тут все плоскости да плоскости.
Сижу, шинкую колбасу.
Какой кошмар – в преклонном возрасте
возненавидеть стрекозу.
Я, как живой среди живущих,
не оставаясь в стороне
от войн, идущих и грядущих,
стараюсь думать о стране,
с которой сросся языками,
ноздрями, пальцами корней,
на ощупь – грязными руками,
вживаясь до последних дней.
Стране растерянной, простудной,
тиранозавровой, шальной,
мечтающей о встрече судной
с рукой божественно-стальной.
Все остальные страхи мимо
проносятся, как тени туч.
Ты потому непобедима,
что враг твой жалок и ползуч.
Ты в коме, друг мой милый, ты в коме.
И жаль, что не слышит никто нас, кроме
пера, рисующего на рулоне
бумаги
мыслей нездешних дрожь.
Ты в коме, милый друг, ты в коме —
и потому еще живешь.
Жизнь вечная даруется душе.
И вот представь, – душа твоя однажды
Окажется не просто в неглиже,
А наизнанку вывернутой дважды.
И свет не тот, который видел глаз,
И тьма не та, которая казалась.
И никого… И ничего… от нас
Тех, на земле, здесь больше не осталось.
Я не боюсь повторов.
Пусть потом
все то же повторят,
как повторяю и я сейчас.
Пусть каждый новый голос
окрасит свет.
Пусть повторится свет.
Я не боюсь повторов.
Они сильней, чем времени узда.
Они не терпят храмов и притворов,
им тесен мир, случившийся уже.
И потому я не боюсь повторов.
Я не боюсь приставок сладких «лже».
Пусть списком бесконечных приговоров
жизнь будет длиться, вториться, расти.
И нету зол, способных повторенье прервать.
Из одного стихотворенья,
из капли света можно воссоздать
все бывшие,
все вечные творенья.
Пока я в турке чай варил —
мои турчанки постарели.
Опять идти на Измаил?
Вы что, сдурели, в самом деле?
Так путать эти времена,
как будто только что приплыли
искать какого-то руна.
Пока турчанки чай варили.
В Египте вызрело зерно,
смешалось с горечью и солью.
Какое, черт возьми, руно?
Взмывали паруса по взморью.
Пока в Египте кофе зрел,
турчанки также чай варили.
Израиль, Измаил горел,
от крови варвары хмелели.
Носами тыкались в пески,
напарываясь дном на скалы,
не заплывая за буйки,
где ходят по морю кошмары,
меняя шкурки для эпох:
то мрак, то лед, то пламень серный,
то над землей не добрый Бог,
а зверь какой-то иноверный,
стальная длань других планет,
конец, представить только, Света!..
– Как должен вывернуться свет,
чтобы себе представить это?
А так, все было как всегда —
турчанки, чай, турецкий кофе.
Среди песка и скал вода,
луна в оливковом сиропе.
Был озадачен Моисей
на сорок лет вопросом:
Куда ему со сворой всей,
ободранной и бо́сой,
готовой даже то украсть,
чего в помине нет?
Что значит здесь добро и страсть,
огонь и белый свет?
Куда вести толпу рабов,
а главное – зачем
метаться между двух гробов
и двух похожих стен?
Пускай плодятся, пусть пасут
овец и шерсть прядут.
Задача не разбить сосуд,
не проронить минут
в пустые поиски чудес,
дающих задарма
прекрасных жен, пшеницы вес,
покоя и ума.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу