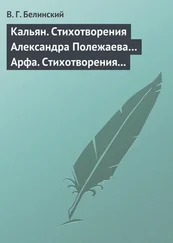И теперь на панели промёрзшей —
Проходя под огнями реклам,
Шаг становится строже и твёрже,
Если череп отдам я стихам.
Вы и я. Мы так разнимся в этом,
В этой мессе напевности рифм,
Впрочем, что ж: я родился поэтом,
Вы же просто мадам Барри.
Задыхаюсь, коль прочитаю
Две-три строчки, где гений есть,
Вам же это лишь хата с края,
И ни выпить нельзя, ни съесть.
Вы умнее меня, быть может —
Вы для жизни ценней во сто крат,
А меня — вот так — уничтожит
Тяжкий, гулкий, пожарный набат.
Вот поэтому я смущаюсь,
Если мне предложите вы
Оторвать, хотя бы с краю,
Хоть кусочек моей синевы.
Я читаю, мой голос сверкает,
В нём таинственный, дивный гипноз,
Прочитаю, потом же какая
Очарованность та, что я нёс.
Ничего. Пьёте чай вы и гости,
И никто не вспомнит потом,
Мой совет: вы поэзию бросьте,
Лучше думайте о другом.
2 февраля 1924 года
В этой фанзе так душно и жарко.
А в дверях бесконечны моря,
Где развесилась пламенно ярко
Пеленавшая запад заря.
Из уюта я вижу, как юно
От заката к нам волны бегут.
Паутинятся контуры шхуны
И певучий её рангоут.
Вот закат, истлевая, увянет, —
Он от жара давно изнемог, —
И из опийной трубки потянет
Сладковатый и сизый дымок.
Этот кан и ханшинные чарки
Поплывут — расплываясь — вдали,
Там, где ткут вековечные Парки
Незатейливо судьбы мои.
«Ля-иль-лях» — муэдзин напевает
Над простором киргизских песков,
Попираемых вечером в мае
Эскадронами наших подков.
И опять, и опять это небо,
Как миража дразнящего страж.
Тянет красным в Москву и в победу
И к Кремлю, что давно уж не наш.
А когда, извиваясь на трубке,
Новый опийный ком зашипит,
Как в стекле представляется хрупком
Бесконечного города вид.
Там закат не багрян, а янтарен,
Если в пыль претворилася грязь
И от тысячи трубных испарин
От Ходынки до неба взвилась.
Как сейчас. Я стою на балконе
И молюсь, замирая, тебе,
Пресвятой и пречистой иконе,
Лика Божьего граду — Москве.
Ты — внизу. Я в кварталах Арбата
Наверху, посреди балюстрад.
А шафранные пятна заката
Заливают лучами Арбат.
А поверх, расплываяся медью,
Будто в ризах старинных икон,
Вечной благостью радостно вея,
Золотистый ко всенощной звон…
В твои глаза, в стальные латы,
Сбивая тяжести оков,
Моим лицом одутловатым
Сочилась музыка стихов.
И я читал на низких нотах,
Чеканя рифм и ритма грань,
А стих был — в поле конский топот,
Был рог — военный зов на брань.
И с каждой строчкой, с каждым звуком
Я брал врата твоих твердынь.
Как победитель — громко, гулко
Под своды зал твоих входил.
Когда же ярко и крылато
Из горла вырвался финал,
Твой взор уже отбросил латы,
Таким покорным, тихим стал.
Гребень сильно пахнет духами.
И причёска эта модна.
О, я знаю, какими грехами
Перевил её сатана.
Через зеркало вижу ресницы,
К волоскам когда руки длишь.
Мне твой рот никогда не снится.
Лишь ресницы… ресницы лишь.
В лифе — чую — клокочет счастье.
От него засияла вся.
И браслеты звенят на запястьях,
Будто мне за обиды мстя.
Но напрасную радость чают:
В этом самом зеркальном окне
Я ведь видел, как в чашку чаю
Ты насыпала яду мне.
Вернуться пьяным на заре
И за окном на голубятне
Стеклянным взглядом посмотреть
На голубей — чего приятней?
Стоять и думать о царе,
Что подоткнул кафтана полы,
Смотрел в тазу на серебре
На голубей в лазурных долах.
И вспоминать, как Карл Седьмой
По голубям из мушкетона,
С охоты едучи домой,
Стрелял под звон, под дамы стоны.
Но голубая Лизабет,
Моля о жизни голубиной,
Всё ж будет косточки их есть
Под вечерок перед камином.
Я сам любитель турманов,
Я сам, махая палкой длинной,
У дядюшки в именьи «Новь»
Гонял их часто пред гостиной.
Не потому ль, что это — даль,
Не потому ль, что нету чаю,
Я пьяный всю свою печаль
На утре в голубях встречаю?
Читать дальше