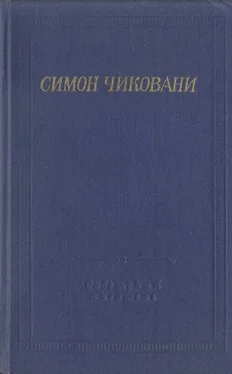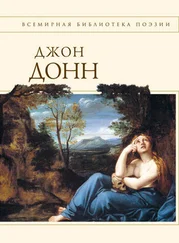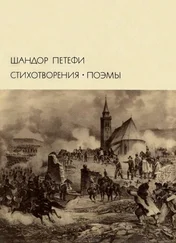Я по колено в гибели! По пояс!
Я вязну в ней! Тесно дышать груди!
О школьник обезумевший! Опомнись!
Губительной прямой не проводи!
Я человек! И драгоценен пламень
в душе моей!
Но нет, я не хочу
сиять заметно!
Я — алгетский камень!
О господи, задуй во мне свечу!»
И отдалился грохот равномерный.
И куст дышал. И я дышал под ним.
Немилосердный ангел современный
побрезговал ничтожеством моим.
И в этот мир, где пахло, где белело,
смеркалось, пело, силилось сверкнуть,
я нежно вынес собственного тела
родимую и жалостную суть.
Заплакал я, всему живому близкий,
вздыхающий, трепещущий, живой.
О высота моей молитвы низкой,
я подтверждаю бедный лепет твой.
Я видел одинокое, большое
свое лицо. Из этого огня
себя я вынес, как дитя чужое,
слегка напоминавшее меня.
Не за свое молился долговечье
в тот год, в тот час, в той темной тишине —
за чье-то золотое, человечье,
случайно обитавшее во мне.
И выжило оно. И над водою
стоял я долго. Я устал тогда.
Мне стать хотелось облаком, звездою,
алгетским камнем, чистым как вода.
1947
72. Осколки глиняной чаши. Перевод Б. Ахмадулиной
Некогда Амирани, рассердившись, разбил вдребезги глиняную чашу, но осколки ее, желая соединиться, с шумом и звоном улетели в небо.
Из народного сказания
…И ныне помню этот самолет
И смею молвить: нет, я не был смелым,
Я не владел своим лицом и телом.
Бежал я долго, но устал и лег.
Нет, не имел я твердости колен,
Чтоб снова встать. Пустой и одинокий,
Я всё лежал, покуда взрыв высокий
Землей чернел и пламенем алел.
Во мне скрестились холод и жара.
Свистел пропеллер смерти одичавшей.
И стал я грубой, маленькою чашей,
Исполненною жизни и добра.
Как он желал свести меня на нет,
Разбить меня, как глиняную цельность,
Своим смертельным острием прицелясь
В непрочный и таинственный предмет.
И вспомнил я: в былые времена,
Глупец, мудрец, я счастлив был так часто.
А вот теперь я — лишь пустяк, лишь чаша.
И хрупкость чаши стала мне смешна.
Что оставалось делать мне? Вот-вот
Я золотыми дребезгами гряну,
Предамся я вселенскому туману,
На искру увеличив небосвод.
Пусть так и будет. Ночью как-нибудь
Мелькну звездой возле созвездья Девы…
Печальные меня проводят девы
В мой Млечный и уже последний Путь.
Разрозненность сиротская моя
Воспрянет вдруг, в зарю соединяясь.
И может быть, я всё ж вернусь, как аист,
На милый зов родимого жилья.
Земля моя, всегда меня хранит
Твоя любовь. И все-таки — ответствуй:
Кто выручит меня из мглы отвесной
И отсветы души соединит?
1944 У Азовского моря
73. Смерть Лешкашели. Перевод Б. Пастернака
Смертельно раненный, без сил,
приплыл с той стороны Баксана.
Он многим жизнь укоротил
из неприятельского стана.
И вот, защитник и боец,
в дыму пылающей долины
встречал он в муках свой конец,
подкошенный осколком мины.
Он простонал: «В глазах круги, —
как бы ища во мне опоры, —
я умираю. Помоги!» —
и в высоте увидел горы.
Как лучезарны небеса
за поясами снеговыми!
Их выступы как паруса,
и Грузия моя за ними!
«Смочи мне лоб!» — шепнул он вдруг
и задышал всё учащенней,
но испустил внезапно дух,
пока я воду нес в ладони.
Я стал, не в силах отойти
от места роковой развязки,
с водой ненужною в горсти,
с живой водой из детской сказки.
Я думал: «Уходи, вода,
назад в подпочвенную жилу.
Мы с ним из одного гнезда,
нас буря с домом разлучила.
Мы на краю родной земли
в одном окопе с ним сидели
и выход к югу стерегли
по эту сторону ущелья.
И этот смертный оборот —
лишь кажущаяся утрата.
Я в живости своих забот
нашел нечаянного брата».
Был снег нагорный ярко-бел,
и небо сине за горою,
и куст смородины горел
свечою в головах героя.
1942
74. Сон. Перевод А. Межирова
В Черкессии,
в черкесской стороне
лежу в огне от незакрытой раны.
Мои виденья медленны и странны,
река в ущелье
плачет обо мне.
Читать дальше