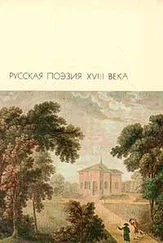Землянка — тесное жилище,
Зато тепла землянка та…
Комэск в селе на пепелище
Нашел бездомного кота.
Бывает — полночь фронтовая,
Темно… По крыше дождь сечет…
И вдруг, тихонько напевая,
На стул комэска вспрыгнет кот.
Снаружи ветер глухо воет,
В окошке не видать ни зги…
А кот потрется головою
О фронтовые сапоги,
И просветлеет взгляд комэска,
Исчезнет складочка у рта.
Как полон золотого блеска
Давно забытый взгляд кота!
И кажется, не так уж сыро
И дождь в окно не так стучит.
Уютной песенкою мира
Кота мурлыканье звучит.
И словно не в консервной банке
Горит фитиль из волокна,
И мнится, что в пустой землянке
Вот-вот заговорит жена.
1943
За то, что, каскою рогатою увенчан
И в шкуру облачен, ты был как гунн жесток,
За пепел наших сел, за горе наших женщин,
От милых сердцу мест ушедших на восток,
За горькую тоску напевов похоронных
Над павшими в огне кровопролитных сеч,
За вбитые в глаза немецкие патроны,
За головы детей, разбитые о печь,
За наши города, за храмы наших зодчих,
Повергнутые в прах разбойничьей пальбой,
За наш покой, за то, что на могилах отчих
Ругаются скоты, взращенные тобой,
За хлеб, что ты украл с широких наших пашен,
За бешенство твоих немецких Салтычих,
За безутешный плач несчастных пленниц наших
На каторге твоей и за бесчестье их,
За всех, кто был убит в церквах, в подвалах, в ригах,
Кто бился на кострах, от ужаса крича,—
Исполнится написанное в книгах:
«Поднявший меч погибнет от меча».
Как бешеного пса, тебя в железной клетке
На площадь привезут народу напоказ,
И матери глаза закроют малолеткам,
Чтоб не пугаться им твоих свирепых глаз.
И грохот костылей раздастся на дорогах:
Из недр своих калек извергнут города.
Их тысячи — слепых, безруких и безногих
На площадь приползут в день твоего суда.
И, крови не омыв, не отирая пота,
Не слыша ничего, не видя ничего,
Чудовищной толпой, сойдясь у эшафота,
Слепые завопят: «Отдайте нам его!»
И призраки детей усядутся в канавах,
И вдовы принесут в пустых глазах тоску…
Куда тебе бежать от пальцев их костлявых,
Что рвутся к твоему сухому кадыку?
И встанут мертвецы. Их каждый холм, и пажить,
И рощица отдаст в жестокий этот час.
Их мертвые уста тебе невнятно скажут:
«Ты всё еще живешь, злодей, убивший нас?»
Тебя отвергнет друг, откажет мать в защите,
Промолвив: «Пусть над ним исполнится закон!
Мне этот зверь — не сын! На суд его тащите!
Я проклинаю ночь, когда родился он!»
Тогда впервые ты почуешь смертный ужас
И, слыша, как твоя седеет голова,
Завертишься ужом, уйти от кары тужась,
И станешь лепетать о милости слова.
Но проклят всеми ты! И милости не будет!
Враги тебе — земля, и воздух, и вода…
И если правда есть, и если подлость судят,
То скоро для тебя наступит День Суда!
1943
106. «Полянка зимняя бела…»
Полянка зимняя бела,
В лесу — бурана вой.
Ночная вьюга замела
Окопчик под Москвой,
На черных сучьях белый снег
Причудлив и космат.
Ничком лежат пять человек —
Пять ленинских солдат.
Лежат. Им вьюга дует в лоб,
Их жжет мороз. И вот —
На их заснеженный окоп
Фашистский танк ползет.
Ползет — и что-то жабье в нем.
Он сквозь завал пролез
И прет, губительным огнем
Прочесывая лес.
«Даешь!» — сказал сержант. «Даешь!» —
Ответила братва.
За ними, как железный еж,
Щетинилась Москва.
А черный танк всё лез и лез,
Утаптывая снег
Тогда ему наперерез
Поднялся человек.
Он был приземист, белокур,
Курнос и синеок.
Холодных глаз его прищур
Был зорок и жесток.
Он шел к машине головной
И помнил, что лежат
В котомке за его спиной
Пять разрывных гранат.
Он массой тела своего
Ей путь загородил.
Так на медведя дед его
С рогатиной ходил.
И танк, паля из всех стволов,
Попятился, как зверь.
Боец к нему, как зверолов,
По насту полз теперь.
Он прятался от пуль за жердь,
За кочку, за хвою,
Но отступающую смерть
Преследовал свою!
Читать дальше
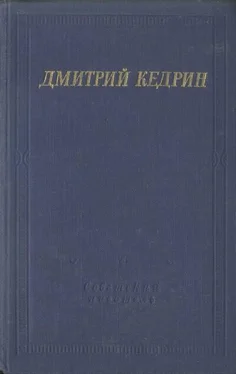
![Вивиан Итин - Страна Гонгури [Избранные произведения. Том I]](/books/29846/vivian-itin-strana-gonguri-izbrannye-proizvedeniya-thumb.webp)

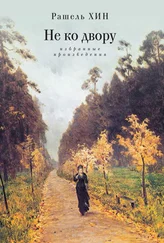
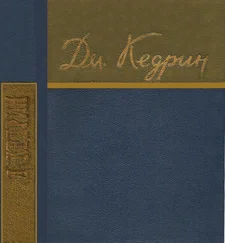

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)