Я, и каких еще, скажи, желать чудес?
«Поговорить бы тихо сквозь века…»
Поговорить бы тихо сквозь века
С поручиком Тенгинского полка
И лучшее его стихотворенье
Прочесть ему, чтоб он наверняка
Знал, как о нем высоко наше мненье.
А горы бы сверкали в стороне,
А речь в стихах бы шла о странном сне,
Печальном сне, печальней не бывает.
«Шел разговор веселый обо мне» —
На этом месте сердце обмирает.
И кажется, что есть другая жизнь,
И хочется, на строчку опершись,
Ту жизнь мне разглядеть, а он, быть может,
Шепнет: «За эту слишком не держись» —
И руку на плечо мое положит.
«Смысл жизни надо с ложечки кормить…»
Смысл жизни надо с ложечки кормить,
И баловать, и на руках носить,
Подмигивать ему и улыбаться.
Хорошим человеком надо быть.
Пять-шесть детей – и незачем терзаться.
Большая, многодетная семья
Нуждается ли в смысле бытия?
Фриц кашляет, Ганс плачет, Рут смеется.
И ясно, что Платон им не судья,
И Кант пройдет сквозь них – и обернется.
«Когда б не смерть, то умерли б стихи…»
Когда б не смерть, то умерли б стихи,
На кладбище бы мы их проводили,
Холодный прах, подобие трухи,
Словесный сор, скопленье лишней пыли,
В них не было б печали никакой,
Сплошная болтовня и мельтешенье.
Без них бы обошлись мы, боже мой:
Нет смерти – и не надо утешенья.
Когда б не смерть – искусство ни к чему.
В раю его и нет, я полагаю.
Искусство заговаривает тьму,
Идет над самой пропастью, по краю,
И кто бы стал мгновеньем дорожить,
Не веря в предстоящую разлуку,
Твердить строку, листочек теребить,
Сжимать в руке протянутую руку?
«Я-то помню еще пастухов…»
Я-то помню еще пастухов,
И коров, и телят, и быков
По дороге бредущее стадо,
Их мычанье густое и рев,
Возвращенье в село до заката.
Колокольчик звенел, дребезжал.
Луг за лесом, как маленький зал,
Объезжал я на велосипеде,
Где паслись они, словно на бал
Приведенные из дому дети.
И другой их лужок поджидал
Где-нибудь за пригорком, и третий.
Мух и оводов били хвостом.
Стадо пахло парным молоком,
У кустов залегали тщедушных.
Было что-то библейское в том,
Как пастух подгонял непослушных.
О, как чуден был вид и пятнист!
Словно нарисовал их кубист,
Я Сезанна любил и Машкова,
Одинокий велосипедист.
Дай мне к речке проехать, корова!
Поворот, небольшая петля.
Так сегодня не пахнет земля,
Как тогда оглушительно пахла.
Словно вечность, грустить не веля,
Помахала рукой и иссякла.
Знал бы лопух, что он значит для нас,
Шлемоподобный, глухое растенье,
Ухо слоновье подняв напоказ,
Символизируя прах и забвенье,
Вогнуто-выпуклый, в серой пыли,
Скроен неряшливо и неказисто,
Как бы раскинув у самой земли
Довод отступника и атеиста.
Трудно с ним спорить, – уж очень угрюм,
Неприхотлив и напорист, огромный,
Самоуверенный тяжелодум,
Кажется только, что жалкий и скромный,
А приглядеться – так тянущий лист
К зрителю, всепобеждающий даже
Древний философ-материалист
У безутешной доктрины на страже.
«Любимый запах? Я подумаю…»
Любимый запах? Я подумаю.
Отвечу: скошенной травы.
Изъяны жизни общей суммою
Он лечит, трещины и швы,
И на большие расстояния
Рассчитан, незачем к нему
Склоняться, затаив дыхание,
И подходить по одному.
Не роза пышная, не лилия,
Не гроздь сирени, чтоб ее
Пригнув к себе, вообразили мы
Иное, райское житье, —
Нет, не заоблачное, – здешнее,
Земное чудо, – тем оно
Невыразимей и утешнее,
Что как бы обобществлено.
Считай всеобщим достоянием
И запиши на общий счет
Траву со срезанным дыханием,
Ее холодный, острый пот,
Чересполосицу и тление
И странный привкус остроты,
И ждать от лезвия спасения
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



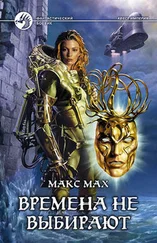
![Макс Мах - Эпоха мечей - Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/393605/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n-thumb.webp)




