Во всех этих положениях гораздо больше от эстетических представлений классицизма, чем от романтической эстетики, а декабристский идеал личности, чуждой всяких противоречий, выглядел ещё довольно абстрактным.
В своих толкованиях вопросов искусства авторы «Зеленой книги» исходили из того, чем располагала русская вольнолюбивая поэзия. Опыт гражданских произведений XVIII и начала XIX века несомненно ими учитывался. В то же время декларации устава стали программой для всех поэтов — членов тайного общества. Именно в соответствии с этими установками создавали свои гражданские произведения П. А. Катенин и Ф. Н. Глинка.
Декабристские гражданские стихотворения 1817–1820 годов характеризуются тираноборческими настроениями, выраженными иносказательно. Поэтам-декабристам необходимы исторические декорации. Они не прямо пишут о современности, а изображают иные эпохи, в которых стараются подчеркнуть общее с современностью. При этом и изображаемая эпоха, и герои, и их идеалы рисуются весьма абстрактно.
Таковы «Опыты двух трагических явлений» Ф. Глинки, напечатанные в 1817 году в «Сыне отечества». Этот отрывок, «не принадлежащий ни к какому целому», как отметил Ф. Глинка в специальном примечании, предельно абстрактен и в то же время предельно аллюзионен. Никаких указаний на место и время действия здесь нет. Но изображение страждущей отчизны, покоренной тираном, воздвигшим «свой железный престол» на «выях согбенных под гнетом рабов», безошибочно связывалось в представлении читателей с современностью, с положением в России. Изображая политических заговорщиков, призывающих к борьбе за свободу отчизны, Глинка создает образы идеальных героев, не знающих сомнений и колебаний, одержимых одной страстью — любовью к родине и свободе.
Если положительным героям чужды всякие противоречия, то тиран показан как человек, полный противоречивых чувств, сломленный бременем страстей. Изображение человека как раба страстей в декабристской поэзии обычно характеризует отрицательного героя. Таковы позднее Тимофан в «Аргивянах» Кюхельбекера, Святополк, Самозванец, Мазепа у Рылеева и другие. Положительный же герой подавляет все колебания и страсти. Таков Катон, изображенный в «Отрывках из „Фарсалии“» (1817) Ф. Глинки. Сближение образа Катона с русскими тираноборцами подчеркивается еще и тем, что Катон, далеко не уверенный в своей победе над Цезарем, считает тем не менее борьбу с ним неизбежной.
Сходные мотивы звучат и в вольнолюбивых произведениях Катенина этой поры. В 1818 году в «Сыне отечества» напечатал он «Отрывок из Корнелева „Цинны“», который представлял собой революционное, антимонархическое произведение. Отрывок является вольным переводом монолога Цинны из 1-го действия трагедии Корнеля. Катенину, как и Глинке, понадобились определенные декорации для выражения своих политических настроений. По сравнению с Глинкой Катенин более тщательно воссоздает в своем произведении исторический колорит, стремясь следовать не столько оригиналу, сколько духу любимой им античности. При всем том аллюзионность отрывка была несомненной. Однако на современников, надо думать, наибольшее впечатление произвели не отдельные намеки, большинству непонятные [20] Злободневный политический смысл этих аллюзий раскрыт современными исследователями творчества Катенина. Под Августом подразумевался Александр I (кстати, эта аналогия была довольно распространенной), Цинна и его друзья-заговорщики, решающие убить императора во время жертвоприношения в Капитолии, — это члены Союза Спасения, разрабатывающие план цареубийства (по одному из вариантов, Александра намечали убить во время богослужения в Архангельском соборе). См.: В. Н. Орлов, Павел Катенин. — П. А. Катенин, Стихотворения, «Б-ка поэта» (М. с.), Л., 1954, с. 12–13.
, а самый тираноборческий пафос «Рассказа Цинны». Заговор против императора здесь представлен как дело законное и даже добродетельное, так как монарх привел страну и народ к неисчислимым страданиям.
«Рассказ Цинны» Катенина, так же как и глинковские «Опыты трагических явлений» и «Отрывки из „Фарсалии“», — типичный при мер гражданской поэзии раннего декабризма.
Слог их возвышен и декламационен, словарь и фразеология в большой степени традиционны и условны. Авторский голос, который должен был бы придать произведениям особую индивидуальную окраску, приглушен. В них к тому же явно преобладает драматическое начало.
Читать дальше
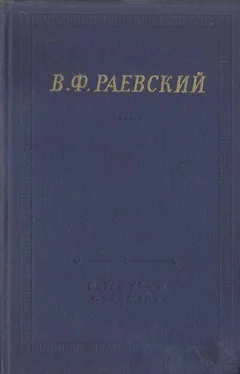






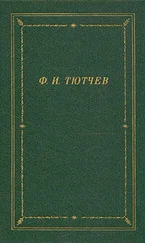


![Марина Цветаева - Полное собрание стихотворений [Компиляция, сетевое издание]](/books/426246/marina-cvetaeva-polnoe-sobranie-stihotvorenij-kom-thumb.webp)