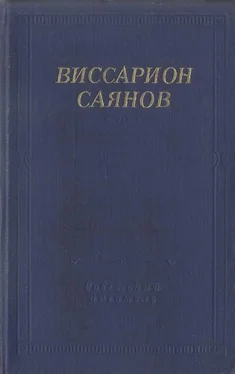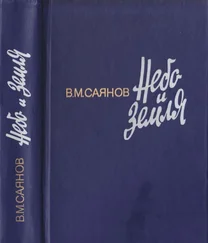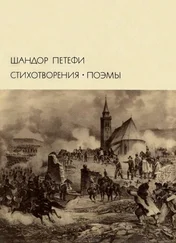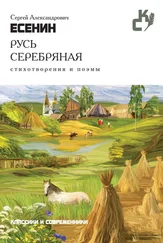Тяга к ладу и слогу легенды, предания, сказа издавна определяла в стихах В. Саянова характер сюжета, его разработку, детали повествования, подчас посвященного самому рядовому и обычному материалу нашей действительности. Но и этот материал под пером поэта обретал черты сказочные, романтические, легендарные, по-своему укрупненные, лишенные незначительных, несущественных штрихов.
Характерно в этом отношении стихотворение «Старая застава» (1930). «Город Бабушкина, Шелгунова» — так называет рабочую заставу поэт, вспоминая дела и подвиги участников революции — учеников, сподвижников и друзей Ленина. Все в этой заставе вызывает у поэта волнение, ибо он знает, что на таких заставах решалась судьба революции. Вот почему и грохочущий завод видится поэту
Словно вход в неизведанный, в трудный
И сверкающий празднично мир.
Этот мир стал удивительной явью наших дней, и он предстает в стихах Саянова во всей своей необычайности, сказочности, красоте:
Еще сталь громыхает в прокате,
Еще город застыл на закате,
Фонари, чуть мигая, горят,
И встает, как в мятежном преданье,
В разгоревшемся звездном сиянье
Город славы — заря — Петроград.
Дела и подвиги советских людей в глазах поэта достойны героического предания, а само предание не повторяет ту или иную «легенду веков», а становится новым, революционным, «мятежным», определяя характер лирики В. Саянова, ее героические и легендарные черты. Его «Комиссар ВЧК» (1937) — герой «прославленной повести», которая «сохранит простые имена», — выполняет ленинские заветы и революционные приказы, не размышляя об опасностях, подстерегающих его на каждом шагу, борется с белогвардейцами, заговорщиками, кулаками — и поэт говорит о нем слогом, близким героическому преданию:
Невысокий, в шапке-невидимке,
Снова скачет степью комиссар,
Путь лежит в тревожной синей дымке
В города Уфу иль Атбасар.
Эта «шапка-невидимка», словно бы заимствованная из народной сказки, придает романтический, а вместе с тем и традиционный характер повествованию поэта, но его стихи насыщены тем материалом, который определяет их сугубо современное значение, связанное с драматическими событиями времен гражданской войны; здесь и подавление кулацкого бунта («атаман бандитской шайки пойман, снова заседает трибунал»), и раскрытие ярославского заговора, и схватка в ущельях диких скал, а затем, после выполнения очередного задания
По приказу Феликса Эдмундовича —
Снова в путь — в дорогу — в маяту.
Поэт и впоследствии не изменял легендарному началу, он по-своему развивал коренные традиции русского фольклора и новаторски переосмыслял их, сочетая с острым и глубоким ощущением современности.
В цикле «Лукоморье» характерны и сами названия стихотворений: «Сказ», «Предание», «Старинная бывальщина», — в них Саянов словно бы откликался на голос слагателя легенд, былин, преданий, отвечая на них новыми легендами и сказами, посвященными героическим деяниям наших современников.
«Повести в стихах», как называл В. Саянов свои поэмы, написанные примерно в то же время, также тяготеют к жанру легенды, предания, того героического сказа, где верность повседневным обстоятельствам и бытовой обстановке сочетается с мотивами героики и романтики, воспеванием подвига, в котором наиболее полно и очевидно раскрываются и обнаруживаются лучшие качества нашего человека.
Свою «Оренбургскую повесть» (1939), посвященную героическим дням и незабываемым подвигам времен гражданской войны, таким ее героям, как Фрунзе, его соратникам и сподвижникам, поэт назвал «былинным сказом». И здесь начало героическое, легендарное сочетается с подробностями бытовой, повседневной обстановки, придающими особую убедительность повести в стихах:
Тихо в штабе Фрунзе; конный ординарец
Дремлет на попоне в рыжих сапогах,
Семь друзей сибирских, не снимая малиц,
Спят на сеновале с «Шошами» в руках.
Поэт говорит в своей «Оренбургской повести» языком старинного сказа, с его тяготением к параллелизмам и противопоставлениям:
То не ветер с юга в полночь реял —
То ночное зарево пылало
В час, когда на тихие деревья
Свет зари ложился тенью алой.
Здесь простор «степей былинных» словно бы перекликается с той внутренней широтой героев поэмы, для выражения которой поэт и обращается к языку былины, предания, народного сказа, к их метафорам и речевым оборотам.
Читать дальше