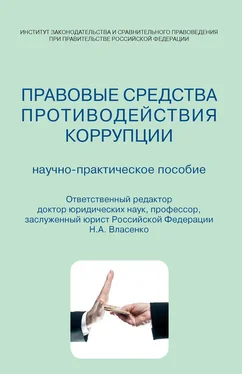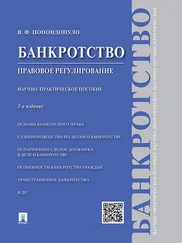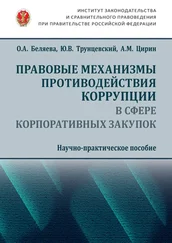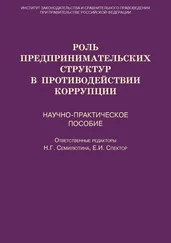Еще одна проблема состоит в том, что закон признает конфликт интересов в большинстве случаев для сделок, но практически не затрагивает для организаций, в которых действует бизнес, иные юридически значимые действия (прежде всего акты управления).
Весьма несовершенна и юридическая техника некоторых законоположений. К примеру, ст. 38 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» среди субъектов, сделки кооператива с которыми являются сделками с конфликтами интересов, указывает «ближайших родственников». Но ни гражданское, ни семейное законодательство никаких «ближайших родственников» не знает, оно признает только в ст. 14 Семейного кодекса «близких родственников», относя к последним родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер. Соответственно норма в этой части просто не может работать;
в) до недавнего времени основным средством противодействия такого рода сделкам были иски о признании их недействительными. То есть юридическим средством устранения негативных последствий такого рода сделок, в том числе в случаях, когда конфликт интересов имел коррупционный характер, выступал институт недействительности . Он и сейчас играет свою роль, хотя и весьма ограниченную. В частности, в соответствии со ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных указанным законом требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или его акционера. Возможность применения этого института урегулирована и в иных законах («Об обществах с ограниченной ответственностью», «О несостоятельности (банкротстве)» и др.). Однако в настоящее время в связи с изменениями в законодательстве в 2009 г. (т. н. «антирейдерский пакет») и судебной практикой возможности оспорить такие сделки со стороны миноритарных участников корпораций сведены практически к «нулю». Указанная ст. 84 закона об акционерных обществах (соответствующие положения мы можем найти и в ряде иных законов) прямо указывает, что суд «отказывает» в удовлетворении требований о признании сделки недействительной, даже если она имела признаки заинтересованной и даже если она была совершена с нарушением требований к ней, при наличии одного из следующих обстоятельств:
– голосование акционера, не заинтересованного в совершении данной сделки и обратившегося с иском о признании данной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, недействительной, хотя бы он и принимал участие в голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования;
– не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков обществу или акционеру, обратившемуся с соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;
– к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным законом, с учетом имевшейся на момент совершения сделки и на момент ее одобрения заинтересованности указанных в законе лиц;
при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренных законом требований к ней.
Правомерность и конституционность соответствующих положений закона подтверждена определением Конституционного Суда от 2 ноября 2011 г. № 1486-О-О «По жалобе гражданина Саттарова Шавката на нарушение его конституционных прав положениями пункта 1 статьи 81 и пункта 1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При снижении роли правового средства института недействительности, однако, не «заработали» иные правовые средства, прежде всего компенсаторного порядка (возмещение убытков и т. д.). Закон закрепляет возможность их применения. В частности, упомянутая здесь ст. 84 закона об акционерных обществах предусматривает, что заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу, а в случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной. Однако в реальности никакой практики привлечения к такой ответственности мы не наблюдаем.
Проблема регулирования конфликта интересов при совершении сделок усугубляется следующим. Выделение сделок с заинтересованностью не решает в полной мере задачу «снятия» конфликта интересов, поскольку в законодательстве существует большая группа норм, направленных на установление особого порядка совершения ряда сделок, а по сути такой порядок как раз и направлен на «снятие» конфликта интересов (к примеру, т. н. крупные сделки и другие). Другое дело, что критерий, через который «ловится» конфликт интересов, заключается не в субъективном факторе (лица, сделки совершающие), а через иные критерии (размер сделки и т. п.).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу