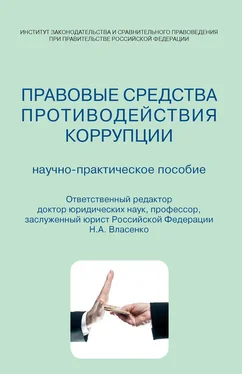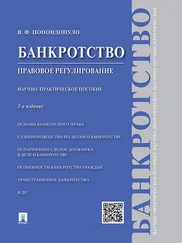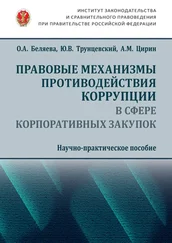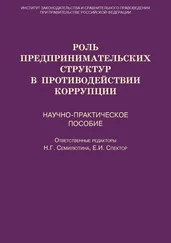На этих двух дефинициях необходимо сконцентрировать особое внимание. Получение взятки «за другого» подразумевает, что фактически лицо, которое получало взятку, не являлось субъектом преступления, так как оно не могло выполнить тех действий, которые могло выполнить должностное лицо. Правовые фикции, как было показано выше, имели место в Уложении и нельзя не отметить их логичность и обоснованность, так как данные решения существенно восполняли законодательные пробелы, которые заключались в законодательных «лазейках» для коррупционеров.
Осведомленность руководителя о коррупции среди подчиненных и непринятие каких-либо действий зачастую подразумевало личную заинтересованность начальника в коррупционных действиях подчиненных. Кроме того, начальник обладал контролирующими функциями, которые направлены в том числе и на пресечение коррупции. Оставление без внимания со стороны руководства коррупционных действий подчиненных приводило к чувству безнаказанности, а зачастую еще больших бесчинств подчиненных. Именно поэтому законодатель ввел понятие «осведомленность начальника», что опять же являлось логичным и последовательным.
Законодатель не обошел своим вниманием и судей, приравнивая их в случае «мздоимства» или «лихоимства» в отношении преступников к соучастникам преступления. Судья, таким образом, помогал преступнику избежать уголовной ответственности, что вполне можно было сравнить с укрывательством и другими составами преступлений, позволяющими уйти от уголовного преследования. [110]
Положение ст. 409 Уложения об ответственности за недонесение начальству о коррупционных действиях того или иного лица позволяет сделать вывод о тщательности и масштабах борьбы с коррупцией в дореволюционной России.
Однако не все статьи VI главы Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. были выполнены безупречно с точки зрения юридического содержания. Например, ст. 411 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных излагалась следующим образом: «те из крестьян или другого состояния людей, которые, не участвуя ни в требованиях взяток или подарков, ни в притеснениях и угрозах, употребляемых для вымогательства, только возьмутся по неразумию и незнанию своих обязанностей передать должностному лицу деньги или вещи от имени своего общества и не присвоят себе их ни вполне, ни частию…». [111]Из смысла данной статьи следует, что к уголовной ответственности могли привлекаться лица, которых с точки зрения объективной стороны состава преступления можно было определить как посредников во взятке, однако ввиду отсутствия какой бы то ни было формы вины использование подобной юридической конструкции в Законе являлось явной ошибкой.
В ст. 412 устанавливалась ответственность за обещание денег, подарков и вещей, что приравнивалось к даче взятки. В ч. 1–5 ст. 412 излагались квалифицирующие признаки, за которые устанавливалась различная уголовная ответственность. Наиболее сурово карались лиходатели, «которые будут стараться предложением взяток или иными обещаниями, или же угрозами побудить должностное лицо к уклонению от справедливости и долга службы и, невзирая на его отвращение от того, будут возобновлять сии предложения или обещания». [112]Напротив, лица, согласившиеся дать взятку лишь вследствие вымогательства, требований или настоятельных и более или менее усиленных просьб должностного лица, за свою «противозаконную уступчивость и недонесение о том, как бы следовало, начальству» подвергались лишь строгому выговору в присутствии суда.
Рассмотренное Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в последующем неоднократно редактировалось, но основная направленность норм VI главы существенным образом не претерпевала изменений. В данном параграфе исследовались лишь наиболее удачные нормы права, которые в контексте сравнения с современным уголовным законодательством Российской Федерации могут быть интересны.
Характеризуя развитие дореволюционной доктрины по вопросу противодействия коррупции, можно привести высказывание правоведа А. Я. Эстрина, отражающее мнение большинства юристов по данной проблеме: «Государство, которое давно уже объявлено неблагополучным по взяточничеству, должно заботиться главным образом о том, как бы не оставить никаких лазеек для угрожающей опасности. Если принять наш критерий и согласиться, что во взяточничестве должно караться обнаружение порочного отношения к самой порученной служащему должности, то подведение разбираемых случаев под понятие взяточничества не представит затруднений». [113]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу