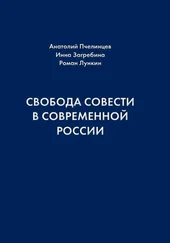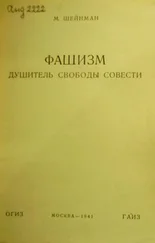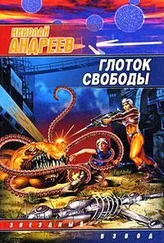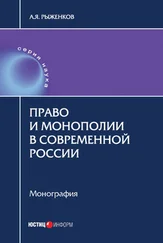Самостоятельную группу правовых актов образуют законы, предусматривающие юридическую ответственность за нарушение законодательства о свободе совести и свободе вероисповедания. Это, в первую очередь, Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Следует обратить внимание и на то, что наряду с федеральным законодательством более чем в 30 субъектах Российской Федерации были приняты собственные законы и иные нормативные правовые акты по вопросам реализации свободы совести и вероисповедания. Но согласно пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации регулирование отношений, возникающих в сфере свобод и прав человека, находится в ведении Российской Федерации. Следовательно, субъекты Российской Федерации не вправе сужать и ограничивать свободу совести и деятельности религиозных объединений, установленные Конституцией и федеральным законодательством. В их компетенции могут быть вопросы защиты прав и свобод человека, находящиеся согласно пункту «б» ст. 42 Конституции РФ в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.
В законодательных актах различного уровня субъектов Российской Федерации свобода совести находит свое нормативное закрепление. Преимущественно, это практически дословное дублирование положений статьи 28 Конституции России. Вместе с тем, в ряде основополагающих документов субъектов Российской Федерации гарантирование свободы совести дополняется условием соблюдения закона. Кроме этого, наличествуют и самобытные, оригинальные формулировки, зачастую не в полной мере соответствующие федеральной Конституции.
Так, статья 46 Конституции (Основного закона) Чувашской Республики, в свою очередь, постулирует: «Гражданам Чувашской Республики гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду.
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Чувашской Республике отделена от государства, и школа – от церкви» [113].
Весьма интересна формулировка свободы совести в редакции статьи 26 Конституции (Конституционного Закона) Республики Карелия; поскольку – как нигде – прямым образом демонстрирует, что под термином «иные убеждения», часто используемом в конструкциях рассматриваемой свободы, следует понимать отнюдь не только атеистические убеждения: «Каждому гарантируется свобода совести – право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выбирать, иметь и распространять религиозные, атеистические или иные убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения закона. Религиозные объединения отделены от государства, государственная система образования носит светский характер» [114].
Часть 2 статьи 27 Конституции Республики Адыгея закрепляет: «Каждый имеет право на беспрепятственное высказывание своих мнений и выражение убеждений. Никто не может быть принужден к высказыванию своих мнений и выражению убеждений или отказу от них» [115].
В остальных же субъектах Российской Федерации законодатель, как правило, ограничивается лишь упоминанием об обеспечении или гарантировании свободы совести без пояснения того, что следует под этой свободой понимать; либо же вообще ее не касается, указывая, что на территории субъекта «гарантируется осуществление всех прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации».
Кроме закрепления в конституциях (уставах), свобода совести порой становится самостоятельным объектом законодательства субъектов Российской Федерации. Так, наряду с Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» действует Закон Республики Башкортостан «О свободе совести и вероисповедания в Республике Башкортостан» в редакции от 16 июля 1998 г. [116]
Вопросы свободы совести также затрагивает и Закон Республики Бурятия «О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия». 4 августа 2000 г. Прокурор Республики Бурятия обратился в Конституционный Суд Республики Бурятия о проверке соответствия Конституции Республики Бурятия положений отдельных статей данного закона. «Постановлением Конституционного Суда Республики Бурятия от 10 октября 2000 г., – отмечает судья Конституционного Суда Республики Бурятия К. А. Будаев, – эти положения были признаны Конституционным Судом Республики Бурятия не соответствующими статье 9 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статье 28 Конституции Российской Федерации, Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» и статьям 11, 17 Конституции Республики Бурятия. В связи с принятым нашим решением Верховный Суд Республики Бурятия 9 ноября 2000 г. вынес определение о прекращении дела» [117].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу