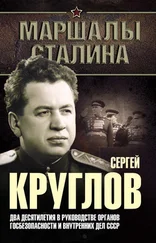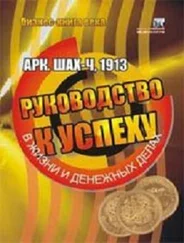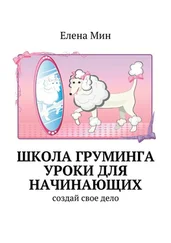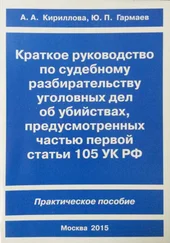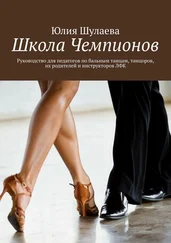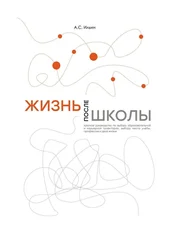К железнодорожному обществу предъявлен иск об убытке за противозаконное лишение свободы. Факты таковы. Пассажир потерял свой билет и отказывается платить за проезд; сторож у выхода пригласил инспектора; тот послал за полицейским и передал ему пассажира для задержания. Чтобы уничтожить всякое значение объяснений истца, следует вести допрос следующим образом:
У вас спрашивали билет?
Да.
Вы предъявили его?
Нет.
Почему же?
Потому что я его потерял.
Но вы твердо помните, что взяли билет?
Да.
Вы в этом вполне уверены? (Это очень предупредительно по отношению к вашему противнику: вы бросаете тень сомнения на своего собственного свидетеля.)
Вполне.
А что говорили ответчики? То есть я хочу спросить, что сказал сторож?
Этот вопрос окончательно сбивает с толку свидетеля; он отвечает: «Тут меня и арестовали». Он не сказал и половины того, что должен был удостоверить.
На последний ответ поверенный уже возражает свидетелю — для вящего разъяснения дела:
—Нет, нет; выслушайте меня.
Свидетель поглаживает подбородок с таким видом, как будто его собираются брить. Судья посматривает на него и думает: врет или не врет? Блестящий поверенный ответчиков улыбается; присяжные переглядываются с догадливым видом и начинают подозревать, что перед ними сутяжное дело, подстроенное недобросовестным стряпчим. Раздается следующий вопрос:
Когда поезд остановился, вы вышли из вагона?
Да, сэр; я вышел, когда поезд остановился.
Спрашивал у вас кто-нибудь ваш билет?
Спрашивал! — громогласно заявляет свидетель; ему кажется, что допрос наладился.
Кто спрашивал?
Я положительно не знаю, кто он такой; я в первый раз в жизни видел его.
Ну, хорошо. Что же он сделал?
Да он ничего не делал, сэр.
Свидетель недоумевает; ему представляется, что он забыл какое-нибудь важное обстоятельство, от которого зависит все дело.
Все это кажется столь нелепым на бумаге, что иные читатели, пожалуй, усомнятся в самой возможности подобного допроса. Я могу только сказать, что в наших судах часто бывает еще гораздо хуже, когда молодой адвокат допрашивает так называемых «глупых свидетелей». На суде почему-то всегда кажется, что в глупости виноват тот, кого спрашивают; на бумаге выходит, что на глупость имеет как будто больше прав тот, кто спрашивает.
Я считаю нужным указать по этому поводу одно основное правило допроса своих свидетелей. Отчего правило это не усваивается и не соблюдается, как аксиома, всяким адвокатом с его первых шагов, я не знаю; разве потому, что никогда не было написано на бумаге.
Правило же заключается в том, что при допросе свидетелей необходимо всегда сохранять последовательность времени.
В книжке это кажется очень простым правилом, и всякий скажет: разумеется, это ясно, как любая из десяти заповедей; и это столь же часто нарушается молодыми адвокатами. Загляните в суд, вы увидите, что события бегут вперегонки, как муравьи по муравейнику. Правило не только не соблюдается, его и признавать не хотят. Правда, главные события обыкновенно излагаются в некотором порядке, потому что судья требует этого для точности своих заметок. Но как это бывает трудно, когда неопытный молодой человек вылавливает здесь одну мелочь, там — другую, примешивает к ним неверные факты и числа, предоставляя судье самому разобраться в них, как картами в пасьянсе!
Свидетель излагает свое показание в естественном порядке (если только ему не мешают), сохраняя в своем рассказе и последовательность времени. Но адвокат неожиданно перебивает его вопросом: «Позвольте, свидетель; одну минуту. Что, собственно, вы сказали, когда заговорили с ответчиком?»
Нить рассказа сразу прервана, память свидетеля с трудом возвращается назад, как раненый солдат к тылу, и нужно некоторое время, чтобы вновь ввести его в линию боя. Это не все. Судья сердится, недоволен (если только может сердиться судья), а присяжные теряют способность следить за ходом рассказа. Если вопрос был существенный, судье приходится менять свои заметки, и в них, вероятно, окажется путаница. Если бы последовательность рассказа не была нарушена, исправления бы не потребовалось; теперь, благодаря несвоевременному вопросу, все последующие события могут получить иную окраску. Кроме того, нарушение этого правила имеет стремление к размножению. Так как вопрос был предложен не вовремя, то судья спрашивает: «Когда это было?» Свидетель путается, старается припомнить и весьма легко может отнести ответ совсем не туда, куда следует; ему напоминают, что этого быть не могло, предлагают быть осторожнее и т. д., к вящему недоумению решительно всех, кроме поверенного ответчиков; последний мысленно благодарит своего противника за неожиданное содействие. Из этого ясно, что каждое событие должно быть помещено в своем естественном месте и каждое существенное обстоятельство и разговор, сопровождавшие это событие, должны быть переданы в связи с ним; таким образом, все исчерпывается по мере хода рассказа. Если вы не сумели сделать этого для вашего клиента, ему было бы лучше обойтись без ваших услуг.
Читать дальше