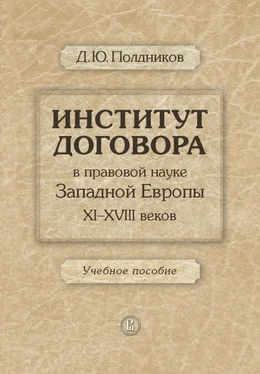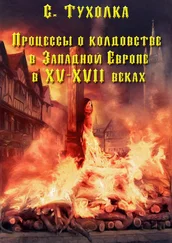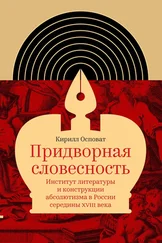Реальное определение, как учил Боэций, устанавливало сущность только общих понятий. Единичное служило предметом описания (descriptio), а не определения. Как известно, общее понятие состоит из признаков, общих с родом, к которому оно принадлежит, и особых, определяющих его видовое отличие. Выше отмечалось, что представления о существенном и несущественном в Средние века были неясными. В учении об определении Боэций также изложил метод поиска существенных и несущественных признаков лишь в общих словах. Следовало проводить пошаговый поиск видообразующих отличительных признаков предмета, отнимая один признак за другим и проверяя, сохранилась ли принадлежность предмета к роду. Очевидно, что высшие роды таким образом определить невозможно. Конечный результат определения – установление тождества между определяющей (definiens) и определяемой (definiendum) частями, например, в определении «пакт есть соглашение двух или более лиц», «соглашение двух или более лиц» (definiens) тождественно «пакту» (definiendum).
Правило тождества определяемого и определяющего тем более было важно для глоссаторов, поскольку римские юристы предлагали различные определения одного и того же понятия.
Как и остальные разделы диалектики, учение об определении несовершенно. В его основе заложен посыл об определимости любого понятия. В действительности правила определения работают только применительно к предметам, имеющим общие признаки. Живая речь содержит понятия, которые обозначают предметы без общих признаков, лишь сходные друг с другом. Пример такого понятия в обыденной речи – слово «игра», в научной – «субъективное право». Такие понятия нельзя полностью охватить в определении.
В области определимых понятий глоссаторы руководствовались нехитрыми правилами построения определений, создавали сравнительно простые определения сложных понятий и тем самым снижали их познавательную ценность.
Наконец, определения в глоссах уязвимы с точки зрения их целеполагания. Цель определения в диалектике – указать, чем является предмет, выделить его сущность. Однако знание сущности предмета – конечная цель науки. Наука стремится именно к раскрытию сути вещей. Все остальные вопросы второстепенны. Цель определения в правовой науке скромнее – пояснить предмет, задать отправную точку исследования. Установление сути предмета имеет смысл только в современном синтетическом определении, где неизвестное научное понятие разъясняется через известное бытовое. В аналитическом определении указывать на сущность – значит определять неизвестное через неизвестное.
Некоторые определения глоссаторов не имеют выраженной цели, а многие понятия вовсе не определены [14] Placentinus. Summa codicis. De pactis. Moguntiae (Mainz), 1536. P. 41.
. Например, согласие (consensus) регулярно присутствует в определениях пакта в качестве ближайшего рода, однако само понятие «согласие» нигде не раскрывается. В частности, Плацентин пояснял «согласие» через «соглашение», «поскольку никто не может договариваться сам с собой, поэтому нужно соглашаться, то есть соглашаться с другим».
Отмеченные недостатки диалектического учения об определении снижали ценность построенных глоссаторами определений. Очевидно, определение понятий глоссаторы воспринимали как дополнение к основной познавательной операции – делению.
Обзор применения диалектического метода свидетельствует о практической направленности исследований в работах глоссаторов. Из содержания древней логики они выбирали то, что считали нужным. Из основных разделов диалектики чаще всего они пользовались делением понятий на роды и виды путем построения понятийной многоступенчатой пирамиды.
Диалектический метод предоставлял глоссаторам некоторые преимущества по сравнению с римскими юристами. В частности, они превзошли своих предшественников по размаху классификации понятий. Г. Берман полагал, что средневековые правоведы достигли в этом уровня системности и абстрактности современной правовой науки благодаря «смешаному браку» римского права с греческой философией [15] Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 124, 138, 148.
. Немецкий же ученый Г. Отте, напротив, видел в произведениях глоссаторов лишь построение отдельных групп понятий, пока еще не всегда связанных друг с другом и с некой общей идеей [16] Otte G. Dialektik und Jurisprudenz. Untersuchung zur Methode der Glossatoren. Frankfurt a. M.: Klostermann, 1971. S. 227–229.
. Менее заметно преимущество глоссаторов в построении определений. В остальном же они выступали в роли учеников римских юристов, осваивали их наследие.
Читать дальше