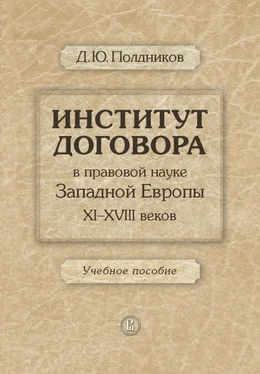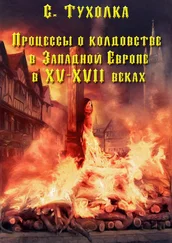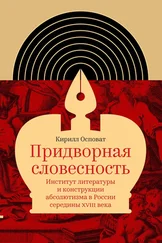Переходя к учению об определении, мы опять сталкиваемся с различием средневековой и современной логики.
Напомним, что в античной и средневековой логике использовались только знаки естественной речи (слова и их сочетания). Искусственные символы (применяемые в синтаксических и семантических определениях) – открытие современной науки.
В самом общем смысле определение содержит сведения о значении слова. Сведения могут быть двоякого рода: либо пояснительного значения («слово X имеет определенное значение»), либо указательного («слово X должно иметь определенное значение»). В первом случае мы имеем дело с пояснительным, или аналитическим определением, которое относится к предмету (а не к знакам) и содержит утверждение, что предмет имеет определенные признаки (иногда его еще называют реальным, от лат. res — вещь). Во втором случае определение называется номинальным, или синтетическим, и поясняет знак, имя.
Синтетическое определение глоссаторам было неизвестно. Они пользовались аналитическим определением как для пояснения предметов (аналитическое определение в собственном смысле), так и для пояснения «имен». Таким образом, они различали виды определения не по способу, а по определяемому объекту («реальное», если определяется вещь, «номинальное» – если «имя», nomen).
Вслед за Боэцием глоссаторы понимали определение как анализ значения слова. Следовательно, такое определение является суждением и может обладать свойством истинности или ложности. Этим оно отличается от современного синтетического, или номинального определения, часто используемого в законодательстве. Синтетическое определение – это выражение воли законодателя («слово X должно иметь данное значение»), а воля не может быть ни истинной, ни ложной.
Средневековое определение отличалось и от римского. В Своде Юстиниана definitio — это либо краткое изложение судебного решения, либо установление законодателя, либо правовая норма. Ни в одном из указанных смыслов definitio никак не поясняет слово и не устанавливает его сущность. Глоссаторы знали о данном различии, но остановились на диалектическом понимании определения, предложенном Боэцием. Так, в ответ на известное предостережение Яволена об опасности определений в цивильном праве (D. 50.17.202) Аккурсий отметил: «определение, согласно Боэцию [имеется ввиду фрагмент Boethius. De differentis topicis. I 1059 В], есть речь, указывающая на значение какой-либо вещи; здесь же [то есть в D. 50.17.202] говорится о кратком или обобщенном формулировании правила относительно нескольких разных вещей».
Боэций считал номинальное определение определением лишь в несобственном смысле. Как и Аристотель, он основное внимание уделял реальному определению, поскольку считал основной задачей определения как такового указать сущность предмета. Именно этим определение отличается от описания (descriptio), которое не указывает на существенные признаки предмета, а только на случайные.
О новом отношении глоссаторов к определениям свидетельствуют их комментарии к предостерегающим словам римского юриста Яволена: «Всякое определение в цивильном праве чревато опасностью, ведь редко когда оно не может быть опровергнуто» (D. 50.17.202). Глоссаторы не могли не обратить внимание на это предупреждение, но истолковали его в нужном для себя смысле. Так, в Глоссе Аккурсия к словам «omnis definitio» добавлено следующее толкование: «…но это сказано о поспешном и обобщенном объединении различных случаев в одном правиле», т. е. опасность в цивильном праве проявляется прежде всего в формулировании кратких или обобщенных правил в отношении различных правовых ситуаций.
Аккурсий косвенно провел различие между определением и правилом (нормой). Следуя мнению Цицерона и Боэция, он отметил, что определение имеет онтологическое значение, а правило, наоборот, – нормативное. Именно с правилами юристу прежде всего приходится иметь дело.
Диалектика предлагала глоссаторам лишь общие правила построения определений. Номинальное определение строилось либо на пояснении незнакомого слова через знакомое, либо этимологическим путем. Как и римские юристы, глоссаторы часто прибегали к этимологическому определению, несмотря на то что оно не дает полного содержания понятия, т. е. не указывает на все существенные признаки. Такую склонность, очевидно, следует объяснять влиянием учения стоиков, известным в Средние века в переложении Августина, в соответствии с которым слова по природе должны соответствовать предметам, которые они обозначают. Например, крест (crux) – пояснял испанский богослов и ученый-энциклопедист Исидор Севильский в своих «Этимологиях», – звучит так жестко от жестокости казни на кресте, а роща (lucus) называется так, поскольку туда проникает мало света (lux). Этот же христианский мыслитель утверждал, что «без этимологии понимание действительности от тебя ускользает», но «зная происхождение слова, ты сразу же ощущаешь его силу» (I 7,1; I 29,2). Именно на «Этимологии» Исидора Севильского глоссаторы часто основывали свои пояснения. Например, Рогерий утверждал, что поручение называют мандатом, поскольку его как бы дают рукой (тапи). В глоссе Аккурсия «пакт» выводится из слова «мир» (pax). У глоссаторов даже был особый термин – естественное значение (naturalis significatio). Напротив, Аристотель в произведении «Об истолковании» подчеркивал, что свои значения слова получили не от природы, а по договоренности между людьми.
Читать дальше