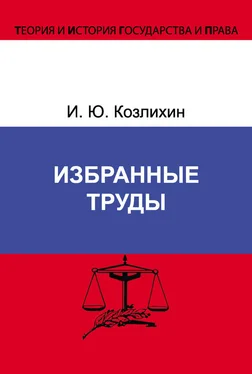Платон как ученик Сократа отталкивается от его идей и не приемлет софистического противопоставления позитивного и естественного права, объединяя их единым божественным источником, ибо «Бог есть мера всех вещей, а не человек, как думают некоторые». Не соглашаясь с релятивизмом софистов, Платон ищет вечные, неизменные основания человеческой жизни, стремится дать ответ на вечный вопрос «Как надо жить?» (О государстве, 352 в). Ответ звучит, в общем, просто: жизнь должна быть гармоничной, урегулированной, дружеской, соотнесенной с мировым божественным порядком, а не с природой человека. Споря с софистами, он сходится с ними в оценке человека как существа страстного. Но если младшие софисты восхваляют своеволие человека, считая «своевольную жизнь» правильной, то для Платона идеал – воздержанность и подавление страстей.
Вот что, например, говорит младший софист Калликл: «Кто хочет прожить жизнь правильно, должен отдавать полнейшую волю своим желаниям, а не подавлять их, и как бы ни были они необузданны, должен найти в себе способность им служить (вот на что ему мужество и разум), должен исполнять любое свое желание» (Горгий, 49 е). Платоновский Сократ возражает Калликлу: «… та часть души, где заключены желания, легковерна и переменчива» (Горгий 493). Человек, руководствующийся необузданными желаниями, несправедлив и несчастлив: «…подобный человек не может быть мил ни другим людям, ни Богу, потому что он не способен к общению, а если нет общения, нет и дружбы. Мудрецы учат, Калликл, что небо и землю, богов и людей объединяют общение, дружба, порядочность, воздержанность, справедливость, по этой причине они и зовут нашу Вселенную “порядком” (“космосом”), а не “беспорядком”, друг мой, и не “бесчинством”» (Горгий, 508). Вечная и неизменная естественная справедливость лежит в основании этого порядка, именно ей отдает он предпочтение, а позитивный закон лишь одно из средств ее реализации.
Полис для Платона – это совокупность людей, призванных делать что-либо вместе (О государстве, 351 с). Поэтому индивидуализм софистов совершенно неприемлем для него, как неприемлема и вытекающая отсюда идея о праве сильного у младших софистов. Вместе с тем Платон все же мыслит теми же категориями. Право силы он отвергает потому, что это право отдельного индивида – право на произвол, на своеволие. Применение же силы со стороны полиса не только оправданно, но и необходимо. Ведь справедливость есть соразмерность и соподчиненность всех начал: разума, воли и чувства, в признании общей цели и направляющей к ней силе, в том числе и силе закона, суть которого состоит не в равном распределении прав, а в распределении обязанностей по принципу «каждому – свое». Итак, закон есть возложение обязанности и исключение всего того, что разъединяет граждан, ибо нет для государства ничего более лучшего, чем то, что его сплачивает и объединяет (О государстве, 462 в).
Сплоченность, объединенность, регламентированность превращаются у Платона в идею фикс. Весь мир находится в движении – это отлично понимал Платон, и, понимая это, он становится диалектиком «наоборот». Все зло от движения, поэтому его нужно остановить. Не будем рассуждать на тему бесперспективности и недостижимости остановки всеобщего движения и изменения – нас интересует только правовой аспект этой проблемы. Платон отлично понял суть правовой нормы как общего и абстрактного правила поведения, неизбежно оставляющего какое-то «свободное поле» и поэтому имеющего объективные пределы воздействия на людей. Только закон недостаточен для создания и поддержания идеального государства тотальной регламентированности. Платон оказался прав: ни одно тоталитарное государство не имело в основе своей закона как всеобщего абстрактного правила поведения.
Итак, такие качества правовых норм, как всеобщность и абстрактность, рассматриваются Платоном как весьма существенный недостаток. Поэтому государство, в котором господствует закон, лишь второе в платоновской иерархии форм правления, а истинным, т. е. знающим, правителям идеального государства законы не нужны. Их Платон сравнивает с врачами, которых «почитают независимо от того, лечат они нас добровольно или против воли… действуют они согласно установлениям или помимо них… лишь бы врачевали они на благо наших тел» (Политик, 293 в). Так и в случае с истинным правителем: неважно, правит он по законам или помимо них (293 с), главное, чтобы это делалось на основе знаний и справедливости (293 е), а царское знание – это умение судить и повелевать (292 в). Разум выше позитивных законов (294), и не у законов должна быть сила, а у царственного мужа и, кстати сказать, независимо от того, правит он или нет (293). – «Ни закон, ни какой бы то ни было распорядок не стоят выше знания. Не может разум быть чьим-либо послушным рабом; нет, он должен править всем, если только по своей природе он подлинно свободен» (Законы, 875 д). Может показаться, что Платон поет гимн человеческому разуму, но это не так. К человеческому разуму он относится скептически. Недаром люди для него – это стада, пасущиеся в полисах. С одной стороны, Платон убежден в могуществе человеческого разума, с другой – полагает, что разумность не присуща человеку по природе. Разум присущ лишь царственному мужу, а человек нецарственный не может, не вправе решать, как ему жить: полисному стаду необходим пастух. Позитивный закон выполнить эту задачу в полном объеме не может, ибо жизнь человеческая находится в постоянном изменении, а закон не в состоянии дать установления на все случаи жизни. Кроме того, люди все разные, и к каждому нужен индивидуальный подход. А «закон никак не может со всей точностью и справедливостью охватить то, что является наилучшим для каждого и это ему предписать» (Политик, 294 д).
Читать дальше