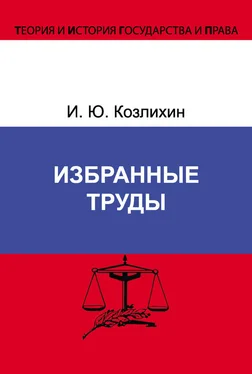Теории Д. Локка и Ш. Л. Монтескье отличны от взглядов Аристотеля и тем, что они должны были учитывать реальное наличие феномена, не известного Аристотелю, – суверенную власть государства. У Аристотеля роль права заключается в упорядочении процесса распределения и восстановления справедливости в случае ее нарушения по отношению к каждому гражданину. Такого рода правовой процесс пронизывал всю жизнь полиса и непосредственно связывался с деятельностью полисных должностных лиц (воспринимаемых не абстрактно, как деперсонифицированная сила, а вполне конкретно, как человеческие существа, обладающие страстями и разумом). Поэтому требование правления закона как правления разума относилось к ним как к людям, а не как к должностным лицам. В Новое время эта идея преобразуется в принцип защиты граждан от государства, понимаемого в качестве абстрактной властной силы, представляющей угрозу для индивидуальной свободы и нерушимости частной жизни.
В XIX в. эта традиция была подхвачена Б. Констаном, А. Токвилем, Дж. Миллем. Иными словами, она развивалась вне классического правоведения, скорее в рамках общей политической и социологической науки. В XIX в. в чисто юридическом духе ее попытался изложить А. Дайси. Собственно, он и начал использовать термин «правление права» [139] Дайси A. B. Основы государственного права Англии. Μ., 1907. – В русском издании термин «the Rule of Law «переводится как «господство права».
как понятие конституционного права. Правда, в его версии «правление права» предстает в формализованном и традиционалистском виде. В термин «правление права» он вкладывал три значения. Во-первых, это отсутствие государственного произвола: «…никто не может быть наказан и поплатиться лично или своим состоянием иначе, как за определенное нарушение закона, доказанное обычным законным способом перед обыкновенными судами страны» [140] Там же. С. 212–123.
(в общем, эта парафраза ст. 39 Великой Хартии Вольностей). Во-вторых, равенство перед законом и судом: «…всякий человек, каково бы ни было его звание или положение, подчиняется обыкновенным законам государства и подлежит юрисдикции обыкновенных судов». [141] Там же. С. 220.
Наконец, в-третьих, и это очень важно для последующего изложения, английская конституция, основанная на принципе правления права, сложилась постепенно, как результат многочисленных судебных решений, «определяющих права частных лиц в отдельных случаях». Поэтому английская конституция как бы не зависит от воли людей, она теснейшим образом связана с каждодневной жизнью народа и не является результатом законодательства в обычном смысле этого слова, «английская конституция не была утверждена, но выросла». [142] Там же. С. 223.
Дайси находит истоки конституции в ранней истории, и в чисто английском духе ее авторитетность выводит из ее древности. Сам феномен правления права развивался, по его мнению, судами общего права, создавшими соответствующую правовую систему, принципиально отличную от правовых систем стран континентальной Европы – Франции, Греции, Швейцарии. Приверженность принципам правления права у Дайси превращается в английскую национальную черту, присущую только англичанам, и никому более.
В XX в. эту идею Дайси развил Ф. Хайек. Австрийца по происхождению и образованию, но прожившего многие годы в Англии и США, легко можно было бы отнести к англофилам, однако это было бы большим упрощением. Скорее история Англии и США предоставляла Хайеку многочисленные факты для иллюстрации его экономических, социально-политических, философских и правовых взглядов.
Либертаристские теории были инициированы как установлением тоталитарных режимов в ряде стран, так и в гораздо большей степени растущим вмешательством государства в экономику и социальную жизнь развитых стран. Несомненным лидером либертаризма является Ф. Хайек, посвятивший почти всю свою долгую жизнь защите свободы в ее классическом либеральном, негативном понимании – как свободы от вмешательства государства в частную жизнь, в жизнь гражданского общества. Свобода приобретает у Хайека тотальное значение. Она для него не просто одна из ценностей, она источник и условие всех ценностей, взятых вместе и порознь. Он называет себя «неисправимым старым вигом» [143] Hayek FA. The Constitution of Liberty. Chicago, 1960. P. 409.
и подтверждает это даже названиями своих основных работ: «Конституция свободы», «Право, закон, свобода», [144] Hayek FA. Law, Legislation and Liberty. 3 vs. Chicago, 1973.
«Дорога к рабству». [145] См.: Вопросы философии. 1990. № 10–12; Новый мир. 1991. № 7–8.
Читать дальше