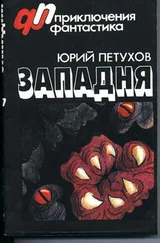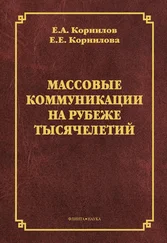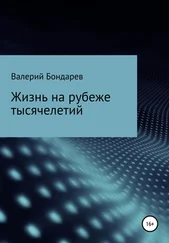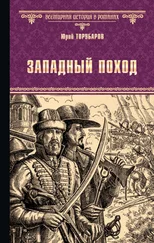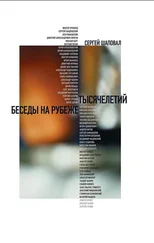229. См.: Ветошкин А.П., Каратеева Н.А., Миняйло А.М. Духовно-нравственная экономика. Екатеринбург, 2008. С. 312–319.
230. Как отмечал о. Сергий Булгаков, «способность сознательно, планомерно, творчески трудиться есть принадлежность существ свободных, т. е. только человека… хозяйство, рассматриваемое как творчество, есть и психологический феномен, или, говоря еще определеннее, хозяйство есть явление духовной жизни в такой же мере, в какой и все другие стороны человеческой деятельности и труда… Понимание хозяйства как творчества, дающее место свободе, приводит также к проблемам этики хозяйства и его эсхатологии» ( Булгаков С.Н. Философия хозяйства. Собр. соч. T. 1. М., 1993. С. 231–234).
231. Об этом см.: Забаев И.В. Основные категории хозяйственной этики современного русского православия. М., 2008. С. 43–48.
232. Подобные оценки ситуации давались и ранее. По наблюдению К.Н. Костюка, обусловленные десятилетиями атеистической политики советского государства «забвение опыта социальной, миссионерской и воспитательной работы, “катакомбное” сознание, внутренняя замкнутость и консерватизм, отсутствие социально-политической активности и инициативы – цепи, которые до сих пор прочно приковывают Церковь к советскому прошлому. Этой же традицией живет государство и сегодня в своем отношении к Церкви, ориентируясь не на сотрудничество, а на руководство, не на поддержку, а на подачки, ревностно оберегая Церковь от реального социально-политического участия». В то же время подобное положение обусловлено исторически сформировавшимся в православной традиции ортодоксальным отношением к миру: если католицизм осуществляет свое социальное воздействие благодаря власти, протестантизм – посредством этики, то Православие черпает свою силу в традиции, характере бытостроительства. Православная Церковь «принимает мир только таким, каким он должен быть, т. е. “христианским миром”… по отношению же к миру секулярному ей трудно выработать конструктивную позицию, поскольку она не имеет адекватных этому миру богословского языка, понятий, методологии. Этот мир Православной Церкви непонятен». В то же время «лишая такие сферы социального бытия, как этика, экономика, политика, образование своей опеки, т. е. духовного воздействия, Православие своим консерватизмом, с одной стороны, инициировало развитие атеистического социализма, а с другой стороны, само подрывало свою опору в обществе, не умея “воцерковлять” новые явления жизни и повышать свой авторитет… Трагическое разделение духовного и социального, которое так и не было преодолено Церковью, обернулось катастрофой как для Церкви, государства, так и для всего русского народа». Сегодня «не выполняя свою этическую функцию, Церковь полностью теряет общественный авторитет… от того, сумеет ли Православная Церковь в обозримый срок сформулировать свою социальную программу и активизировать общественную деятельность, во многом зависит ее авторитет в обществе» ( Костюк К. К История становления и теоретические основания христианского учения об обществе // Социально-политический журнал. 1997. № 4. С. 130–145).
233. Не вызывает сомнений и не оспаривается, что главное предназначение Церкви – это распространение ее святости, содействие постоянному присутствию в повседневной жизни как можно большего количества людей правильно понятого Евангелия. Это наибольшее и наилучшее, что может сделать Церковь для государства и общества. Однако государство не вправе отказывать и, напротив, призвано содействовать, причем не только из этических, но и из прагматичных мотивов, реализации христианами социальной миссии, когда они к этому готовы, особенно в тех сферах, которые исторически вышли из церковной ограды как требующие особенно напряженного и возвышенного нравственного подвига.
234. Точка зрения, в соответствии с которой практически любая попытка Церкви участвовать в социальной жизни рассматривается как недопустимое действие, находящееся в контексте стремления церковных деятелей и светских клерикалов установить в России теократическую модель государственного устройства, по-прежнему распространена и полновесно представлена в литературе. Примером такого подхода является труд Ж. Тощенко «Теократия: фантом или реальность?» (М., 2007).
235. Представляется, что именно несвоевременность начала корректного и прозрачного диалога внутри православной среды (а сегодня, как кажется, уже смело можно оперировать понятием «православное гражданское общество») по беспокоящим верующих, а часто просто превратно интерпретируемым ими вопросам стало приводить к экстраординарным событиям наподобие пензенского затворничества, публикаций писем еп. Диомида и пр. В высшей степени нежелательным выглядит повторение ошибок Римо-Католической Церкви пятисотлетней давности, когда неготовность церковной иерархии к более доверительному общению с паствой привело к масштабному церковному расколу («столкнувшись с антицерковными движениями, церковные власти односторонне активизировали свой консерватизм, требовали от верующих пассивного подчинения, а не добровольного ответственного сотрудничества, фактически это привело к дальнейшему враждебному отпадению от Церкви… Те, кто был воспитан Церковью и ее культурой, превратились по большей части в ее противников» ( Лорц Й. Указ, соч. Т. 2. С. 8). Ср.: «…высшая иерархия Церкви не могла найти правильного среднего пути между двумя одинаково недопустимыми тактиками: с одной стороны, мелкого и по существу безрелигиозного политиканства и, с другой – тактикой полного устранения от всех вопросов политической жизни – устранения, которое всегда и неизбежно имеет власть молчаливого согласия со всеми действиями самодержавной власти» ( Аскольдов С.А. Указ. соч. С. 193).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу