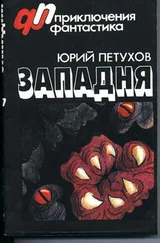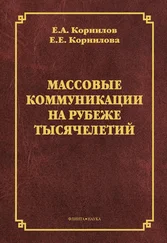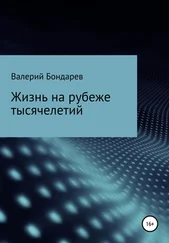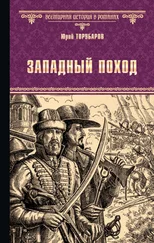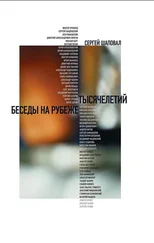Всплеск интереса к работам Бонхёффера в англо-американском богословии пришелся на 60-е годы XX в. Отдельные яркие образы, предложенные немецким богословом, были взяты и переосмыслены представителями «радикальной теологии», такими как Уильям Гамильтон, Томас Альтицер и Джон Робинсон. В частности, У. Гамильтон и Т. Альтицер стали известны своей концепцией «смерти Бога». 158Д. Робинсон, англиканский епископ, с именем которого ассоциируется термин «секулярная теология», давал позитивную оценку новой безрелигиозной эре и искал наиболее адекватного выражения церковного свидетельства в изменившемся мире через обращение к своего рода пантеистическому персонализму. Другой яркий представитель секулярной богословской школы Харви Кокс отмечал, что Церковь должна стать «авангардом Бога», провозглашающим современный секуляризм исполнением божественной воли, а также прилагающим усилия к формированию нового человечества и «мирского града» как места его обитания.
Современность требует, таким образом, отказа человека от устремленности к Богу. Вместо этого христианин должен стремиться к воплощению христианских идеалов в мире. Идея служения Богу, по сути, заменяется идеей служения миру во имя Бога. Этот подход дает новый импульс развитию социального либерального протестантизма, в котором процесс десакрализации христианства заметен все сильнее.
Осмысление трагедии Холокоста дало импульс другому необычному развитию протестантского богословия – иудеохристианству. В его основе лежат тезисы о недостаточности Воплощения для спасения человека, признании Ветхого Завета и иудаизма по крайней мере равнозначными с новозаветным Откровением истинами и о приравнивании Холокоста к Искупительной Жертве Христа. 159
Наконец, еще одним значимым трендом Протестантизма XX столетия становится активное участие в борьбе за расовое равноправие и феминистском движении. Эта активность дала жизнь «теологиям освобождения» – трем сходным богословским феноменам второй половины XX в. – черному богословию, латиноамериканской теологии освобождения и феминистскому богословию. Их пафос состоял в изменении мира и построении нового общества, основанного на социальной справедливости. Однако общегуманные ценности в рамках новых протестантских течений достигались порой за счет отказа не только от традиции христианства, но и от фундаментальных положений Евангелия, что, в частности, приводило к неоязычеству в отдельных проявлениях «черного» христианства и фактическому самообожествлению некоторых его лидеров. 160
Таким образом, во второй половине прошлого столетия социальная доктрина Протестантизма все более активно впитывала давно уже ставшие атрибутом секулярного мира ценности и понятийные категории, все более интегрируясь на правах равнозначного компонента в парадигму институтов гражданского общества и постепенно превращаясь в антропоцентричное социальное учение гуманистической направленности.
В конце XX – начале XXI в., когда кризис традиционных религиозных институтов очевиден для любого исследователя, многие протестантские авторы размышляют о дальнейших путях западного богословия и об ответственности Церкви за будущее мирового христианства. Работы Велькера, Мильбанка и Форда являются примером нового консервативного витка Протестантизма. 161В протестантском мире все более явно обозначается конфронтация между сторонниками традиционной христианской этики и последовательными либералами. Христианские церкви стран «третьего мира» болезненно реагируют на продолжающееся обмирщение церковного богословия и его капитуляцию перед вызовами секулярного общества. Схожие процессы протекают и внутри классических протестантских церквей Западной Европы. Так, продолжающиеся в европейских церквах споры о допустимости женского священства и церковного благословения однополых союзов зачастую приводят к отделению от них целых общин и обращению последних к более традиционным формам христианства, прежде всего – Католичеству и Православию.
Протестантизм и его влияние на Запад
Подведем итоги. Среди важнейших изменений, произошедших в религиозном сознании Запада благодаря Реформации и повлиявших на общественную мысль, следует назвать поворот от подозрительного отношения к миру и светскому порядку к деятельному участию в мирских делах. Если средневековое католическое монашество предпочитало совершенствовать и преображать свое духовное состояние путем бегства из мира, реформаторы учили, что истинное призвание христианина состоит в служении Богу в миру. Христианская жизнь должна протекать не в монастырях, а способствовать утверждению евангельских ценностей в повседневной жизни. Конечно, монашество на Западе, как и на Востоке, никогда не рассматривалось единственной альтернативой греховной жизни, но очевидно, что в средневековом католичестве присутствовал сильный анти-мирской акцент. Приоритет монашеской жизни над жизнью в миру был очевиден, если речь шла о духовном совершенствовании и аскетике.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу