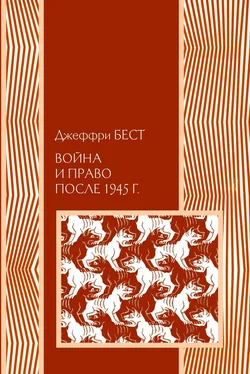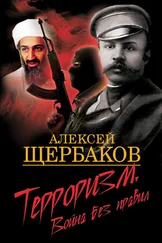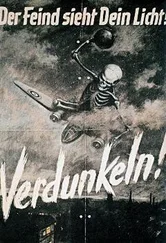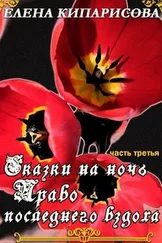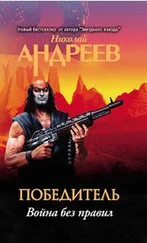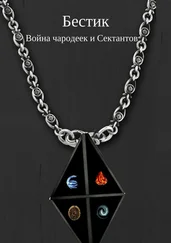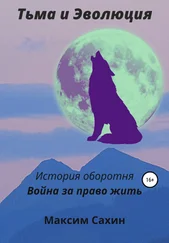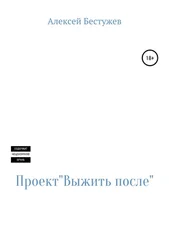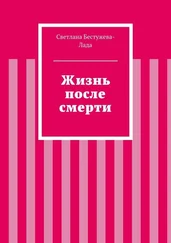Таким образом, неудивительно, что jus in bello должно было расцвести в Европе XVIII–XIX вв. в достаточной степени, что о нем стало известно и сформировалось положительное отношение к нему. Для офицеров, на которых почти исключительно лежала ответственность за его соблюдение, оно было просто частью их профессиональной этики и образом жизни. Об основных его принципах можно было узнать из простых пособий по военной науке, более серьезные знания все шире предоставляли ученые мужи, которые к началу XIX в. приблизились к тому, чтобы называться юристами по международному праву. По большей же части законы и обычаи войны молодой офицер постигал на службе, разделяя со старшими их образ мыслей и действий. Не следует думать, что изменения, которые эти законы и обычаи привнесли в практику военных действий, имели более чем эпизодическое и ограниченное влияние. В частности, к самовосхвалениям эпохи Просвещения нужно относиться с большой осторожностью. Война отнюдь не стала по чудесному мановению руки гуманной деятельностью [9]. Простые солдаты, большинство которых вышли из слоев, весьма отличных от офицерской среды, продолжали поступать так, как всегда поступали с врагами и мирным населением, оказавшимся поблизости от пути их следования или стоянки. Преднамеренная жестокость и бессмысленные зверства как происходили раньше, так и продолжали происходить. Но они стали получать огласку и их начали порицать, чего, в общем, не наблюдалось в прежние времена. Стремление снизить масштаб жестокостей было подлинным, и к концу XVIII в. оно приобрело заметный размах. Уже сформировалось сообщество заинтересованной публики для обсуждения и дискуссий по поводу применения принципов права в конкретных случаях, эти принципы уже стали считаться само собой разумеющимися, а их основа содержалась в самой культуре общества, а не только в его правовой надстройке. Никогда, вплоть до конца XIX в., не требовалось упоминать того рода договоры, ссылками на которые наполнены современные учебники по данному предмету (впрочем, и в конце XIX в. не было большой необходимости в таких ссылках). В тот год, когда был заключен первый такой договор, один английский эксперт, не лишенный дара предвидения, написал: «Всегда следует иметь в виду, что позитивные законы войны, как и законы чести или этикета, создаются практикой их употребления, хотя опираются на разум и выгоду, – они продолжают существовать благодаря силе традиции и отмирают по мере устаревания» [10].
Но в красном яблочке уже завелся червячок. Со временем выяснилось, что jus in bello само по себе, с договорами или без них, не может набрать силу и стать достаточно универсальным, чтобы удерживать войну в тех рамках, которые порядочные люди могли бы назвать приемлемыми. Те офицеры и джентльмены, которые в целом серьезно воспринимали законы войны и положительно относились к идее минимизировать приносимое ею зло, на деле были ограничены некой рукой, которую не могли видеть так ясно, как ту, которую они видели. Та рука, которую они видели отчетливо, – это рука принципа. А другая рука, существование которой они едва ли осознавали, – это рука технологии. Находящиеся в их распоряжении средства для нанесения ран, увечья и убийства, какими бы мощными они ни казались в то время, по более поздним меркам были слабыми, близкодействующими и неточными. То, что они могли бы сделать, будь у них для этого средства (оружие, живая сила, мобильность), становится ясно из строк о законности и приличии, которыми пестрят страницы военной истории XVIII–XIX вв. Количество и частота этих строк свидетельствуют не о слабости права войны, а о его силе, не о невежестве, а об осведомленности. Принципы законов и обычаев войны вызывали всеобщее восхищение, но их применение к конкретным случаям было делом, по поводу которого разные люди могли иметь разное мнение. Явные нарушения закона беспокоили людей именно потому, что они столь высоко ценили его. Ни один признанный герой войны либо ученый муж не отзывался о праве войны с пренебрежением. Революционные голоса то там, то тут высказывались подобным образом, но французские армии 1790-х годов на практике пришли к тому, что стали вести себя в общем и целом так же, как и все остальные. Наполеон был приверженцем этого закона. Резкие формулировки Клаузевица по поводу взрывоопасной непредсказуемости войны и ее жестких условий были направлены не против принципов рыцарства и гуманности – сам он был образцом этих добродетелей, – но против наивных романтиков, которые хотели вывести войну из истории: закоснелых доктринеров, которые считали, что войну можно вести по сборникам правил, и сентименталистов, которые думали, что войну можно вести в лайковых перчатках. «Мы должны усвоить себе тот взгляд, – напоминал он им, – что получаемый войной облик вытекает из господствующих в данный момент идей, чувств и отношений» [11].
Читать дальше