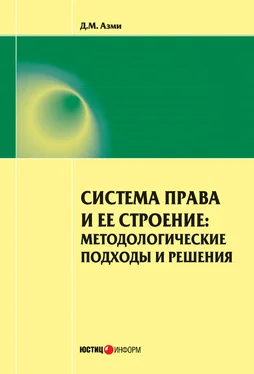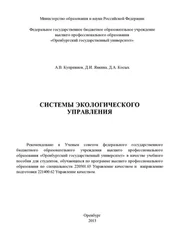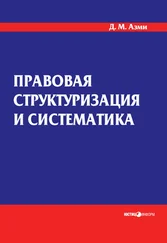Указание на неясность для советского правоведения зарубежных концепций вызывает у нас некоторое недоумение. Может быть, о ней и можно было бы говорить в преломлении к позициям философского (в том числе естественно-правового) и социологического типов. Но только при разделяемом М.А. Аржановым понимании права сугубо как совокупности формально-определенных норм. С учетом признания многогранности права и различных типов правопонимания такие указания представляются нам необоснованными. А вот сугубо классификация норм позитивного права производится действительно по предмету (содержанию) правового воздействия.
Данная идея членом-корреспондентом Академии наук СССР, к сожалению, не развивалась. Вместо этого М.А. Аржанов сосредоточил внимание на критике предложений о выделении других факторов распознавания отраслей права. Так, обращаясь к юридической форме (включающей в себя и метод правового регулирования), ученый отмечал, что отрасли права разграничивать по ней не следует. Эта форма всегда производна от содержания. Норма права вторична по отношению к соответствующему социальному взаимодействию и лишь придает последнему юридический характер. А вот само отношение может существовать и без нормы права. В последнем случае оно просто остается за рамками юридического регулирования.
Тезис верный. Но при этом неясно, как быть с тем, что сам М.А. Аржанов определял систему права как классификацию норм права, т. е. не через социальную сущность явления, а посредством его формального юридического отображения. Данный вопрос ученым не разъяснен. Более того, дальнейшие высказывания свидетельствуют о том, что, критикуя формально-юридические аспекты, М.А. Аржанов не обратил внимания на то, что и сам он оперирует не к сущности, не к идеям, не к принципам права, а исключительно к действующим правовым предписаниям.
Вместе с тем, если подходить к пониманию права сугубо с нормативных позиций, то форма регулирования (по словам М.А. Аржанова – «особенности в форме тех норм, которые относят к той или иной отдельной отрасли права» [47]) не может быть отделена от правил поведения. Иными словами, применительно к позитивному правовому материалу разрыв между юридической формой и общесоциальным содержанием представляется искусственным. Некорректно, например, с юридических позиций рассуждать о купле-продаже, не обращая внимания на то, посредством какой формализации (в нашем случае – договорной) она осуществляется. Кроме того, рассуждения М.А. Аржанова о правовой форме, по сути, относимы именно к методу правового регулирования, т. е. лишь к одному из аспектов формального отображения права.
М.А. Аржанов указывал: «…правильно то, что система права должна отражать конкретные особенности данного исторического типа права, данной правовой практики… Это может быть достигнуто лишь в том случае, если система будет следовать за содержанием, а не за формой правовых норм. Содержание правовой нормы – вот что в первую очередь, решающим образом выявляет в себе специфику данного общества… В форме права его специфика выступает слабее, в форме имеется относительно больше элементов общего в праве разных исторических типов и формаций» [48].
Здесь поражает то, что ученый-юрист отверг тот критерий, на который сам же указывал как на относительно стабильный, повторяющийся. Содержание права (как и любого иного ноумена и феномена) не может быть распознано и дифференцировано без обращения к его форме. Так, и тайное хищение чужого имущества, и заем можно считать имущественными отношениями. Сущность же этих отношений, безусловно, различна. Это определяется даже на интуитивном уровне. Но наука и практика оперируют не внутренними ощущениями, а их рационализированным, внешним отображением, выражающимся в данном случае в понятии «правовая форма». Именно юридическая форма предоставляет практикам наиболее четкие и простые ориентиры квалификации одного деяния как преступления, а другого – как сделки.
Можно лишь предположить, что возражения члена-корреспондента Академии наук СССР против правовой формы были обусловлены не только тем, что наличие нескольких оснований приведет к систематизационной непоследовательности, но и «буржуазно-догматическим» характером данного критерия. Эта гипотеза подтверждается следующим высказыванием ученого: «Источником формального или, точнее, формалистического принципа систематизации права является, по нашему мнению, формалистическое понимание сущности права. Сторонники формального принципа, сами того возможно и не осознавая, исходят видимо из положения, что раз право есть форма общественных отношений (что, конечно, совершенно правильно), то при правовом подходе к вопросу, в данном случае при правовой систематизации, следует исходить из особенностей формы. Юридическое, в соответствии с этой концепцией, означает – формальное. Юридический критерий должен быть формальным критерием, лежащим в плоскости не содержания, а формы права. Принцип формально-логической группировки норм широко отстаивается в буржуазной юридической литературе… Вопрос о форме норм – это, бесспорно, исключительно важный вопрос юридических наук… Однако все это не лежит в плоскости систематики права» [49].
Читать дальше