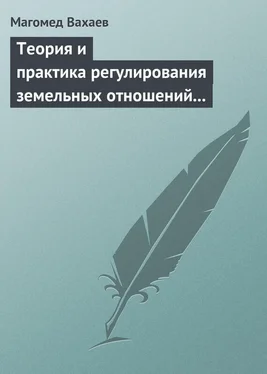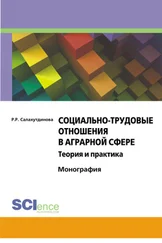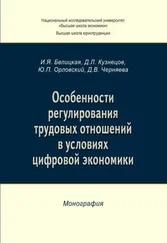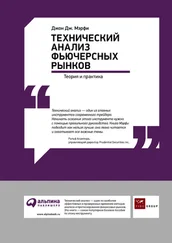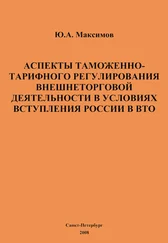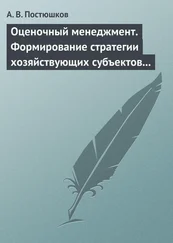[1]
Экологическое право России: Сб. матер, науч. – практ. конференций. Вып. 1. 1995–1998. М., 1999. С. 281–283. . Более того, сделки с землей (в частности, ее залог) способны привести к обездоливанию тех, кто ее теряет
[2] Журнал российского права. 1997. № 5. С. 79–85.
.
Эти соображения, конечно, справедливы, но они не учитывают «экономической составляющей» частной собственности – заинтересованности собственника в сохранении и увеличении продуктивности земли (если речь идет о сельскохозяйственных или лесных землях). При государственной собственности работающее на земле лицо не имеет гарантии, что именно эта земля останется за ним и впредь. По сравнению с частным собственником у него ослаблено стремление сохранять и преумножать полезные качества земли. Поэтому если общество выбирает принцип справедливости в виде равного доступа к земле всех желающих, то оно проигрывает в сохранении и улучшении земли, и наоборот. Логически рассуждая, мы приходим к выводу, что оба варианта равноправны. Но исторический опыт как России, так и других стран учит, что выбор склоняется в пользу «экономического варианта». Правильность или неправильность этого выбора, в конечном счете, способна подтвердить только аграрная статистика. Но в современной России надо исходить из того, что выбор сделан в пользу частной собственности на землю.
Дополнительный довод проф. Г. В. Чубукова против частной собственности на землю заключается в том, что земельная рента увеличивает стоимость продуктов сельского (и лесного) хозяйства, т. е. отрицательно сказывается на потребителе. Этот взгляд распространен среди многих представителей науки. Например, его высказывали видные в свое время экономисты [3] Гофман К., Федоренко Н. Экономическая защита природы // Коммунист. 1989. № 5. С. 79–85.
. Тем не менее он верен. Земельная рента не есть «составляющая» цены сырьевого продукта, она есть его производная. Иными словами, первичной является цена, а вторичной – рента. Этот тезис считается бесспорным в экономической науке, из него и следует исходить.
Среди части ученых-аграрников бытует представление об институте коллективного владения или даже коллективной собственности на землю крестьянской общины как об идущем якобы из глубины веков. Проф. Н. Н. Осокин выразил данное мнение такими словами: «Земля для русского крестьянина не могла быть предметом купли-продажи. Он вправе был продать все свое имущество, но землю – нет: она общественная» [4] Экологическое право России. Вып. 1 1995–1998. С. 95.
.
Это представление берет свое начало в сравнительно недавней истории – после отмены крепостного права в отношении помещичьих крестьян в 1861 г.; его поддержала национализация земли, произошедшая в 1917–1918 гг. Запрет продажи земли касался только так называемых общинных земель, поскольку купленными землями крестьяне могли распоряжаться по своему усмотрению. Распоряжались своими землями также те крестьяне, которые вышли из общины после 1906 г. в соответствии с правилами столыпинской аграрной реформы. Тем не менее в массе своей крестьянские земли представляли общественную собственность, и здесь Н. Н. Осокин безусловно прав. Однако его рассуждения неверны, когда он придает институту коллективного владения землей неопределенную глубину во времени.
Из ряда опубликованных документов XV–XVII вв. видно, что волостные крестьяне довольно свободно распоряжались своими расчистками: продавали их, сдавали в аренду, закладывали, меняли. В XVIII в. на многие такие сделки накладывались запреты, но они имели цель сохранить податную способность сельского населения, а не «отлучить» его от рынка [5] Ельяшевич Р. Б. История права поземельной собственности в России. Париж, 1948. – См. также: Акты социально-экономической истории северо-восточной Руси. Том 1. 1952. Т. 2. 1958.
.
Таким образом, тезис об «извечности» коллективной собственности на землю на Руси и об исторической необоротоспособности земли не подтверждается фактами.
Против частной собственности на землю иногда выдвигают довод, основанный на политических соображениях. Согласно этому доводу государство не должно утрачивать собственность на землю, поскольку иначе это грозит ему утратой суверенитета. Такая угроза особенно сильна, если землю приобретают иностранные граждане. Наиболее резко данную точку зрения выразил А. В. Мазуров, подвергший критике постановление Верховного Суда РФ от 23 апреля 2004 г., в котором этот Суд «развел» частную собственность на землю и государственный суверенитет на ту же территорию [6] Земельное законодательство и практика его применения на современном этапе: Сб. М., 2004. С. 96.
.
Читать дальше