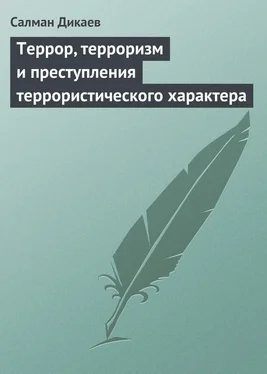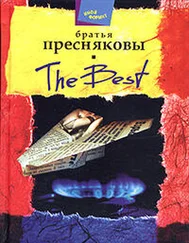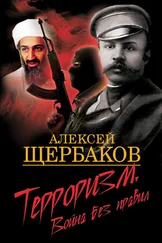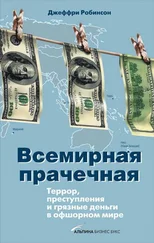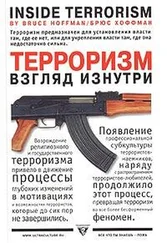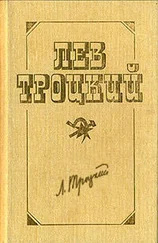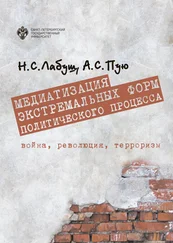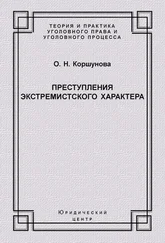Как явление терроризм имеет давние корни, но сами понятия «террор», «терроризм» и «террористический акт» появились сравнительно недавно. Слово «терроризм» применялось в период Французской революции между мартом 1793 г. и июлем 1794 г. и означало «правление ужаса» [7] Петрищев В. Е. История терроризма в России // Современный терроризм: состояние и перспективы / Под ред. Е. И. Степанова. М., 2000. С. 12.
. Согласно словарю Французской академии 1796 г., якобинцы часто употребляли понятие «терроризм» устно и письменно по отношению к себе и всегда с положительным оттенком [8] Алексеенко Д. Актуальность новых подходов в борьбе с терроризмом // Материалы Международной конференции 23–24 октября 2001 года. М., 2001. С. 55.
. Однако после 9 термидора слово «террорист» стало носить уже оскорбительный смысл, превратившись в синоним слова «преступник». Впоследствии этот термин получил более широкое толкование и стал означать всякую систему правления, основанную на страхе. Затем до самых недавних пор слово «терроризм» употреблялось настолько широко и означало столько различных типов насилия, что вовсе утратило какой-либо конкретный смысл.
Впервые попытка дать общеприемлемое понятие терроризма была предпринята на III Международной конференции по унификации уголовного законодательства (Брюссель 1930 г.), организованной Международной ассоциацией уголовного права. Но предложенное определение терроризма не отражало каких-либо характерных признаков этого явления, а лишь перечисляло деяния, которые следует рассматривать как проявление терроризма. А поскольку терроризм – явление многоликое и многомерное, то и перечень деяний, образующих терроризм, оказался весьма широким, позволяющим подвести под это понятие практически любое преступление. По этому поводу А. Н. Трайнин подметил, что «по существу трудно представить посягательство, не подпадающее под это определение» [9] Трайнин А. Н. Защита мира и уголовный закон. Избранные произведения. М., 1969. С. 40–41.
.
На аморфность границ понятия «терроризма», принятого комиссией и предоставленного на рассмотрение III Международной конференции по унификации уголовного законодательства, указывали и многие ее участники, поэтому пленум отложил принятие окончательной резолюции [10] Ляхов Е. Г. Политика терроризма – политика насилия и агрессии. М., 1987. С. 20.
. Но и последующие варианты (предложенные на IV конференции по унификации уголовного законодательства (Париж 1931 г.)) оказались далеко не лучшими, поскольку во главу угла ставились не практические задачи борьбы с терроризмом как уголовно-правовым феноменом, а задачи борьбы с политическими противниками уголовно-правовыми средствами. Все позитивные наработки в части определения объективных признаков терроризма, содержавшиеся в резолюциях III (Брюссель 1930 г.) и IV (Париж 1931 г.) конференций по унификации уголовного законодательства были как бы перечеркнуты пафосом политической борьбы, наполнившим резолюцию V конференции (Мадрид 1933 г.): терроризм в ней определялся как любое действие с целью разрушения социального строя. Поскольку названы конкретные признаки терроризма как самостоятельного преступления не были, упомянутые резолюции так и остались не востребованными официальными международными органами, работающими под эгидой Лиги Наций.
После убийства в 1934 г. короля Югославии Александра I и министра иностранных дел Франции Луи Барту Совет Лиги Наций по своей инициативе поставил вопрос о разработке коллективных мер по борьбе с терроризмом. Советом был образован комитет в составе представителей 11 государств, в том числе и Советского Союза, для разработки Международной конвенции, направленной на борьбу с терроризмом. Конвенция о борьбе с терроризмом содержала довольно широкое толкование терроризма. В качестве террористических актов в ней были названы: всякое умышленное действие, преследующее цель убийства глав государств или дипломатических ответственных должностных лиц государств; разрушение или повреждение государственного имущества или средств транспорта; действия, подвергающие опасности человеческие жизни. Особо была отмечена наказуемость создания преступных организаций в целях совершения террористических актов или участия в таких организациях. Но эта конвенция не была ратифицирована и, соответственно, не вступила в силу [11] Трайнин А. Н. Защита мира и уголовный закон. Избранные произведения. М., 1969. С. 36.
.
Читать дальше