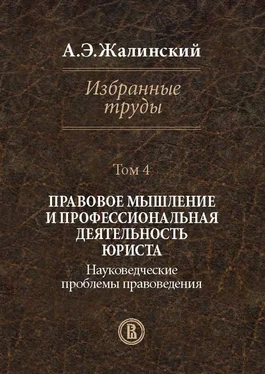Разумеется, следует и впредь запрещать перепродажу ряда товаров по взвинчиваемым ценам и рассматривать это как спекуляцию, но центр тяжести необходимо перенести с полезных видов деятельности на вредные.
При определении содержания уголовно-правовых запретов в союзных законах и республиканских уголовных кодексах необходимо очень тщательно продумать действительно ли то или иное поведение (например, в сфере так называемых государственных преступлений) продолжает оставаться опасным для общества и, напротив, правильно ли оставлять какие-то действия безнаказанными, фактически их поощряя.
Но при этом, по-видимому, необходимо трезво оценивать приоритеты и опасности. Должна быть четкая правовая оценка утаивания информации от граждан, управленческого обмана, ведущего к огромным потерям, должностной бездеятельности, нарушения демократических процедур принятия социально значимых решений.
Социально-экономические процессы, разумеется, определяют не только правовую модель преступности, но и – самое главное – «наполнение» этой модели, т. е. распространенность и характер запрещенных видов поведения, состояние, структуру и динамику преступности, ее причины. Процессы эти не могут сами по себе искоренить преступность. Поэтому невозможна такая ситуация: устраняется дефицит и, по представлению многих, в том числе юристов, тем самым устраняется спекуляция, преступные нарушения правил торговли и т. д. Дело обстоит сложнее. Общесоциальные позитивные процессы включают и линии положительного воздействия на преступность, и некоторые теневые стороны, которые должны гаситься иными дополнительными социальными процессами. С устранением привычного для нас дефицита то, что мы именуем спекуляцией, будет передвигаться в иные области, если устранение дефицита не впишется в более широкий контекст социальных изменений. Можно спекулировать картинами, а картин крупных художников в избытке не бывает и быть не может; можно спекулировать марками, а они ценятся из-за редкости; можно перепродавать только что изготовленные в салоне особо модные изделия. Природы спекуляции это не изменит.
Именно поэтому общесоциальные процессы должны в рамках борьбы с преступностью быть подкреплены и действием уголовного закона, и специальной профилактикой.
Применительно к спекуляции, в частности, необходимы и угроза наказанием за запрещенную деятельность, и воспитание покупателей (его эффективность зависит от ликвидации общего дефицита), и установление контроля за базами, магазинами и другие меры.
Все это и следует осуществлять с позиций социально-правового мышления, реализуя его возможности. К их рассмотрению и следует перейти.
Что может социально-правовое мышление?
Вопросы подобного рода постоянно волнуют человечество. Что могут разум, наука, просвещение, вера, нравственность, как определяют они поведение людей? Ответы общество получает разные.
Правоведы, касаясь этой проблематики, обычно рассматривают два круга вопросов. Первый относит к соотношению правового сознания граждан и их поведения в сфере, урегулированной уголовным законом. Второй охватывает различного рода связи между развитостью профессионального мышления следователей, оперативных работников, судей и законностью принимаемых ими решений, эффективностью их деятельности.
В первом случае мнения специалистов нередко расходятся. Одни исследователи полагают, что знание закона, а именно оно ближе всего к овладению социально-правовым мышлением, не влияет на поведение граждан. Доказывается это ссылкой на то, что несовершеннолетние правонарушители, как правило, знают уголовный закон лучше, чем подростки, которые ни в каких правонарушениях не замечены. Другие специалисты полагают, что граждане принимают решения о совершении или несовершении преступления все же с учетом собственных представлений о содержании уголовного закона и грозящей им ответственности. Это означает, по-видимому, что при развитости у них социально-правового мышления повышается вероятность принятия решения о законном, правомерном поведении.
Так, исследования О. Л. Дубовик показали, что в случае представления о вероятности раскрытия планируемых преступлений, т. е. знания состояния следственной практики и умения учесть эти знания, заставили потенциальных преступников отказаться от совершения преступлений; в других ситуациях способности к правильному правовому мышлению были блокированы внешними условиями, и индивид принимал решение, явно вредившее его интересам, например о совершении бытового убийства при полнейшей невозможности избежать наказания. [34]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу