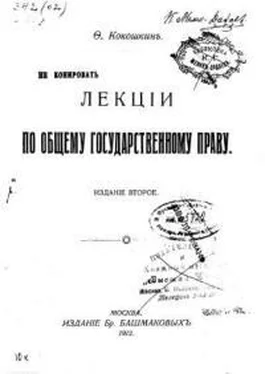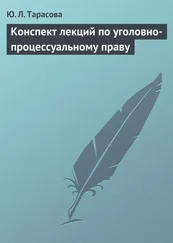Таким образом, основания власти, первоначально коренящиеся в темных тайниках психической жизни человека, постепенно приобретают разумный характер; власть рационализируется. Наличность общественных идеалов и общественного мнения дает возможность власти упрочиться и приобрести юридический характер не только путем обычая, но и в других формах. При государственном перевороте, являющемся результатом вполне назревшего общественного сознания, это последнее может сразу вылиться в форму признания известных юридических норм, на которых строится новая власть.
Рассудочный элемент в подчинении власти побуждает людей обставлять свое повиновение известными условиями; часто подданные, или, точнее, наиболее сильная группа их, заключают формальный договор с властью. Таким договором явилась, напр., "Великая Хартия Вольностей" в XIII в. в Англии и многочисленные подобные ей договоры Средневековья.
Те же рассудочные мотивы вызывают стремление контролировать деятельность власти, чтобы обеспечить соблюдение принятых ею условий. Из этого стремления контролировать власть вырастает стремление к участию в самой власти, которое проявляется обыкновенно сперва в наиболее влиятельных группах общества, а затем захватывает и широкие слои населения. Поэтому вместе с процессом рационализации власти происходит процесс ее демократизации. Оба эти процесса связаны между собой логически и исторически. Однако не нужно думать, что на всем протяжении всемирной истории рационализация и связанная с ней демократизация власти совершаются непрерывным ходом без остановок и обратных движений. Это было бы, может быть, возможно, если бы все человечество составляло с самого начала своей истории один государственный союз. Но государств много, вследствие чего вышеуказанный процесс осложняется столкновениями различных государств и изменениями их состава. Когда государственный союз быстро расширяется и в состав его вливается масса новых элементов, резко отличающихся по своей культуре от прежних, уровень сознательности в отношениях к власти неизбежно понижается во всем союзе. Так, например, в Римском государстве в эпоху республики, когда Рим был небольшой общиной, сознательное отношение к власти было выше, чем в эпоху Империи, когда в состав государства вошла разнородная масса покоренных племен. Но с течением времени, по мере ассимиляции и слияния различных элементов населения, процесс рационализации возобновляется, захватывая все большие массы человечества. Особенно наглядно выступает эта общая тенденция политического развития в истории последнего столетия, именно в развитии и распространении конституционных и демократических учреждений. Но не следует упускать из виду, что даже в наиболее передовых государствах нашего времени государственная власть все же рационализована лишь отчасти; в подчинении ей, и потому и в ее организации всегда остается иррациональный элемент, основанный не на доводах рассудка, а на традициях и безотчетных настроениях. Таким иррациональным, историческим элементом является, например, палата наследственных лордов, существующая в одной из передовых демократий нашего времени, Англии.
В заключение мы приходим к следующим выводам. В основании государственной власти, несомненно, лежит коллективная поддержка населения, вытекающая из признания данной власти, если не всеми членами общежития, то огромным большинством их. Так как общественное признание, которое служит основанием власти, вместе с тем, в тех или иных формах служит и основой права, то всякая признаваемая населением власть имеет юридический характер; повиновение ей основано на нормах права. Общественное признание, составляющее фактическое и юридическое основание государственной власти, носит смешанный характер: в нем переплетаются два психологических элемента: 1) стихийное, инстинктивное подчинение, основанное на чувствах и привычках; 2) сознательное, рассудочное повиновение, вытекающее из рациональных мотивов. Политический прогресс в истории человечества сводится к постепенному расширению второго элемента на счет первого. Политический идеал заключается в том, чтобы осмыслить, подчинить разуму стихийную общественную силу, родящуюся в темных, не освещенных сознанием областях нашей душевной жизни, превратить ее в силу сознательную и разумную.
С точки зрения этих выводов нельзя не признать, что в договорной теории, при всей ее научной несостоятельности, заключалось крупное зерно истины. Она ошибалась, когда предполагала, что коллективная сила общества есть сила вполне сознательная, и потому считала возможным основать власть на договоре всех членов общежития. Но она была права: 1) в том, что государственная власть создается и поддерживается коллективной деятельностью всех граждан (хотя далеко не всегда деятельностью сознательной); 2) в том, что конечная цель политического развития, вытекающая из безусловной ценности разума, заключается в постепенном приближении к общественному договору, в превращении безотчетных или полусознательных политических настроений, стремлений и привычек в сознательную общую волю народа. И поэтому выдвинутый договорной теорией демократический идеал, в отличие от других политических идеалов, имеет действительно вечное и непреходящее значение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу