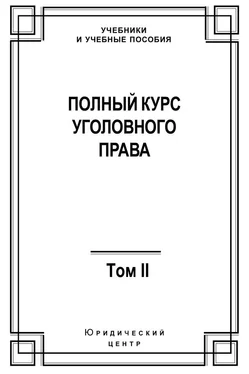Объектом уголовно-правовой охраны применительно к рассматриваемой группе преступлений выступает жизнь человека как биологического существа. Попытки некоторых ученых (А. Н. Красиков) обосновать тезис о неравнозначности понятий «личность» и «человек» в уголовном праве, о включении в него лишь «социализированной личности» нельзя признать плодотворными. Встав на этот путь, мы вынуждены будем исключить из круга потенциальных потерпевших от преступлений против жизни младенцев, стариков, лиц, страдающих некоторыми психосоматическими заболеваниями и психическими расстройствами.
В связи с этим интересно отметить, что в уголовном законодательстве многих стран мира мы встречаем прямо противоположный подход к этой проблеме. Например, в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона квалифицированным (а не простым) убийством признается лишение жизни глухонемого. В новом УК России также квалифицированным считается убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Таким образом, современные правовые системы фактически учитывают только биологический подход к пониманию жизни.
Признание потерпевшим от рассматриваемой категории преступлений человека как биологической особи (безотносительно к его полу, возрасту, национальной, расовой принадлежности, состоянию здоровья и прочим признакам) не исключает необходимости поиска ответа на гораздо более важные вопросы о том, что такое жизнь человека вообще и каковы ее начальный и конечный моменты. Ведь ясно, что уголовная ответственность за посягательства на жизнь по общему правилу может наступать, пока таковая в определенных временны́х рамках уже (или еще) существует. В противном случае действия виновного придется квалифицировать по правилам о фактической ошибке (например, при выстреле в труп или попытке убить мертворожденного ребенка).
По поводу начального момента жизни человека разброс мнений среди ученых достаточно широк. И объясняется это тем, что рождение человека есть растянутый во времени и пространстве процесс, различные этапы которого отдельные исследователи объявляют началом человеческой жизни. Отом, насколько правильное определение этого момента является в высшей степени сложным делом, очень хорошо известно тем юристам, которые, по выражению Ф. Энгельса, «тщетно бились над тем, чтобы найти рациональную границу, за которой умерщвление ребенка в утробе матери нужно считать убийством». [128] См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917–1952 гг. М., 1953. С. 133–134.
В различных уголовно-правовых и судебно-медицинских доктринах мы можем встретить крайне разнообразные суждения о начальном моменте человеческой жизни. Все они умещаются в следующем диапазоне.
Началом жизни человека признавались в прошлом (или считаются в настоящем): а) самостоятельная жизнь человеческого существа вне организма матери после полного отделения младенца от ее утробы (М. М. Гродзинский, А. Ф. Киселев, Г. Н. Волков, Н. С. Таганцев, Н. А. Неклюдов, М. Н. Гернет и др.); б) отделение тела от утробы матери и начало дыхания (М. Д. Шаргородский, Ф. Лист); в) появление из утробы матери наружу какой-либо части тела ребенка (В. Д. Набоков, А. А. Жижиленко); г) появление из утробы матери рождающегося ребенка, даже если он не начал еще самостоятельной внеутробной жизни (А. А. Пионтковский, Б. С. Утевский, Ш. С. Рашковская).
В настоящее время господствующей в России среди юристов и медиков является точка зрения, согласно которой жизнь человека начинается с момента начала процесса рождения. [129] См.: Уголовное право России. Часть Особенная. М., 2004. С. 20; Уголовный закон в практике районного суда. М., 2007. С. 15.
При этом начальным моментом самого процесса родов, достаточным для констатации начала жизни ребенка, следует считать прорезывание головки младенца, выходящего из организма матери. Отделение ребенка от тела матери и переход на самостоятельное дыхание лежат уже за рамками начального момента жизни человека.
Такая трактовка начала человеческой жизни полностью отвечает современным гуманистическим тенденциям в развитии российской уголовно-правовой политики [130] См.: Шарапов Р. Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб., 2001. С. 182.
. Перенос акцента в определении искомого момента на начальный этап процесса родов может выступать и как фак тор, призванный предупреждать некоторые виды преступлений против жизни.
Читать дальше