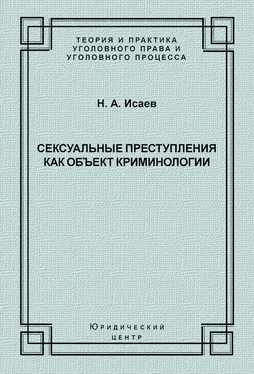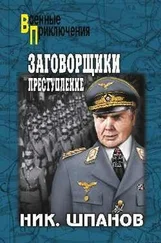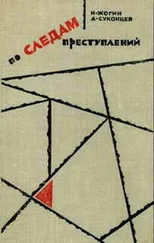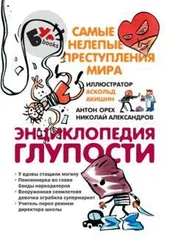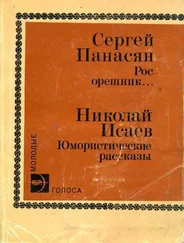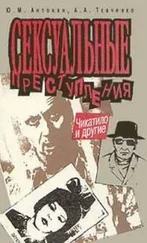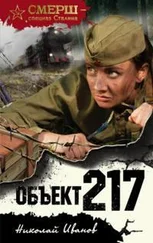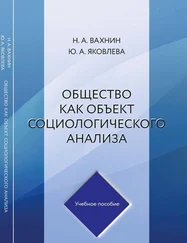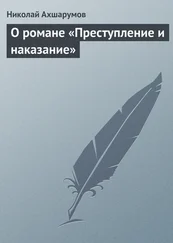Насилие как форма поведения не выступает в обществе Древней Руси как противозаконное поведение, о чем свидетельствует не только «умыкание невесты», но и «поле» в практике судопроизводства, судебный поединок: «…окончательное решение предоставляется оружию, чей меч острее, тот и берет верх. Кто одолеет в бою, тот и выигрывает дело». [278] Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. T. 1. – М., Мысль, 1993. – С. 182.
Важной особенностью «Русской Правды», не отягощенной религиозными догмами, является отсутствие телесных наказаний: «…виновный платил или жизнию, или вольностию, или деньгами». Телесное насилие было исключено из системы наказаний, так как оно само носило институциональный характер.
Наряду с «Русской Правдой» существует «Церковный устав Ярославов», согласно которому регулируется семейный, религиозный и нравственный порядок. С инкорпорацией христианства происходят не только разделение власти религиозной и светской, но и различение и соотношение понятий греха и преступления. Всякое преступление – грех, но не всякий грех является преступлением. Наряду с государством как социальным институтом контроля поведения формируется и церковь как социальный институт, направленный на выработку самоконтроля поведения и создание персоналистической личности европейского типа. На комбинации понятий греха и преступления строится церковный Судебник Ярослава, начало создания которого было положено Уставом князя Владимира Киевского, его отца. «Грех – нравствен ная несправедливость или неправда, нарушение божественного закона; преступления – неправда противообщественная – нарушение закона человеческого», – так объясняет основные принципы составления Судебника Ярослава В. О. Ключевский. [279] Там же. – С. 222–223.
Соответственно дела, которые подсудны церкви, были подразделены на три категории: 1) дела только греховные, без элемента преступления: волхование, чародейство, браки в близких степенях родства (инцест), развод по взаимному соглашению супругов; 2) дела греховно-преступные: об «умыкании» девиц, об оскорблении женской чести словом или делом, о самовольном разводе мужа с женой по воле первого без вины последней, о нарушении супружеской верности; 3) дела «духовные», касающиеся лиц духовного звания.
При этом отмечался принцип «митрополиту в вине, а князь казнит», т. е. карает. Иными словами, наказывает светская власть, а понятие вины относится к области духовного и непосредственно связано с понятием греховности.
Интересной особенностью является тот факт, что большинство ересей возникает именно по вопросам норм регуляции сексуального поведения – богомилы нападают на институт брака, скопцы отрицают сексуальность в целом. В целом для христианской религиозной традиции характерен репрессивный стандарт сексуального поведения, при этом последний непосредственно увязан с моралью, особенно в отношении женщин. Таким образом, любое отклонение от репрессивного стандарта расценивается как аморальное и греховное.
Социальные институты семьи и брака зависят от политической системы и экономической базы, но не полностью их формируют, решающее влияние остается за типом культуры.
Институт контроля сексуального поведения в рамках церкви складывается из трех компонентов – исповеди, покаяния и причастия. Главной целью исповеди является факт признания недозволенного стандартом поведения и признание вины, а более точно – формирование понятия вины, рефлексия, интериоризация стандарта поведения и, соответственно, воспитание, выработка его самоконтроля. Использование исповеди и покаяния предполагало добровольность со стороны прихожанина. В то же время существовала система воздействия, когда неисповедовавшееся лицо не допускалось к причастию и таким образом исключалось из общественного института, подвергаясь остракизму.
Разделение светского и духовного не могло не отразиться на формировании противоречий и парадоксов в этих нормативных системах. При этом социальный институт семьи оставался светским по нормативной регуляции, в то время как институт брака становился религиозным, т. е. брак признавался законным после обряда венчания. Так, уже в указах Ярослава «невенчальная» жена признавалась законной при отсутствии жены «венчальной», и развод и с той, и с другой происходил по одинаковым правилам. Светское наказание за «умыкание девицы» полагалось, если она «засядет», не выйдет замуж за своего похитителя. Кроме того, если «умыкание» сопровождалось христианским браком, виновник не подвергался суду, а наказывался вместе с похищенной женой епитимией. Насильственные формы брачного поведения, существовавшие в дохристианской Руси, следует рассматривать как поведение ритуальное, и насилие носит реципрокный характер, в последующем приобретая символическую и консенсусную форму. О существовании понятий чести и достоинства женщины в указанный исторический период ярко свидетельствует другая норма Судебника Ярослава – «обозвавший чужую жену позорным словом платит ей “за срам”». [280] Там же. – С.232.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу