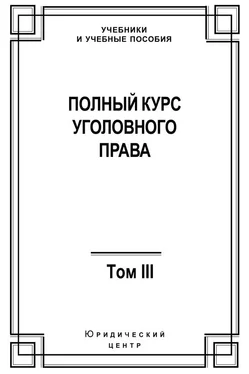Другой пример. Шмельков, находясь в магазине «Охотник-рыболов» и воспользовавшись отсутствием продавца в торговом зале, в присутствии М. просунул руку под стекло прилавка, откуда похитил газовый пистолет. Изменяя приговор, президиум областного суда отметил, что указание районного суда на то, что юридическое положение М. как постороннего по отношению к факту хищения Шмельковым не основано на законе. Шмельков в судебном заседании пояснил, что зашел в магазин вместе со знакомым М. Купив все, что ему нужно, он увидел под стеклом витрины пистолет и решил его похитить. Он предложил это сделать., но тот отказался. Воспользовавшись отсутствием продавца, он похитил пистолет и вместе с М. вышел из магазина, в котором, кроме них, никого не было. Как видно из материалов уголовного дела, М. – друг Шмелькова, а их родители – знакомые. [233]
Таким образом, ограничительное толкование «посторонних лиц» может привести к судебным ошибкам, особенно если рассматривать эту проблему сквозь призму установления административной ответственности за мелкое хищение, совершенное путем кражи, но не грабежа. В результате лицо, совершившее административно наказуемую кражу, может быть незаконно осуждено за криминальный грабеж.
Игнорирование грабителем того обстоятельства, что присутствующие при хищении лица понимают характер его действий, наиболее ярко характеризует существо открытого хищения, при котором виновный не боится в процессе изъятия имущества визуального контакта с кем бы то ни было, включая собственника или иного владельца имущества, могущих воспрепятствовать преступлению или изобличить преступника в качестве очевидцев содеянного. Говорить же о пренебрежении присутствием лиц, посторонних по отношению к похищаемому имуществу, но не к похитителю, в силу чего последний мог рассчитывать на их непротивление или даже одобрение, не приходится.
Что касается коллизии между объективным и субъективным критериями при грабеже, то И. Я. Фойницкий, утверждая в свое время, что «в условиях тайны наибольшую важность имеет субъективная сторона, т. е. чтобы виновный предполагал свою деятельность незаметною для других и не сознаваемую ими», в силу чего содеянное «остается кражею, хотя бы на самом деле потерпевший или иные лица за ним незаметно для него наблюдали», в то же время подчеркивал: «Но одно лишь мнение похитителя, что учиненное им похищение видят и сознают другие, между тем как на самом деле этого не было, не превращает его похищения из тайного в открытое». [234]
Однако с точки зрения субъективного вменения убежденность виновного в открытом характере своих действий должна иметь такое же значение для квалификации, как и его стремление завладеть имуществом тайно. Поэтому более логичной представляется позиция З. А. Незнамовой, считающей, что при конфликте объективного и субъективного критериев предпочтение должно отдаваться субъективному. [235]Но вывод, который она делает, следуя данному правилу разрешения коллизии, представляется неправильным. «Если преступник полагал, что он действует открыто, – пишет она, – а фактически процесс изъятия имущества никем не наблюдался либо наблюдался, но свидетели не осознавали противоправного характера действий виновного, они квалифицируются по направленности умысла как грабеж». [236]В соответствии же с учением об ошибках в уголовном праве (в данном случае – в способе совершения хищения) содеянное должно квалифицироваться в такого рода ситуациях как покушение на грабеж.
Чаще всего изъятие имущества при грабеже от начала до конца носит открытый характер. Но возможны случаи, когда процесс изъятия начинается тайно, но в последующем преступник обнаруживается потерпевшим или посторонними лицами. Если при этом он продолжает изъятие либо применяет насилие с целью удержания тайно изъятого имущества, налицо перерастание кражи в грабеж. Следовательно, похищение следует считать открытым и тогда, когда, начавшись тайно, оно заканчивается так, что виновный, будучи обнаруженным, осознает явность своих дальнейших действий по изъятию или удержанию имущества. [237]Однако «перерастание» кражи в грабеж при изложенных обстоятельствах возможно лишь до полного завладения имуществом и получения возможности им распорядиться, так как с этого момента кража считается оконченной.
Если же лицо, пытавшееся тайно завладеть имуществом, будучи застигнутым с поличным, бросает его, спасаясь от преследования, содеянное квалифицируется как покушение на кражу. [238]Но если имуществом не удалось завладеть в силу того, что оно было отобрано до завершения изъятия (во время борьбы за удержание вещи), содеянное квалифицируется как покушение на грабеж.
Читать дальше