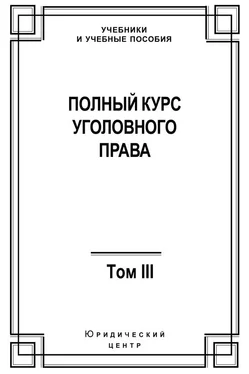Таким образом, в отношении найденных движимых вещей (включая безнадзорных животных) ГК предоставляет нашедшему их лицу право хранить их у себя в течение шести месяцев с момента заявления о находке, пользоваться ими и даже распорядиться путем реализации (если найденная вещь является скоропортящейся или издержки по ее хранению несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью), которому корреспондирует обязанность отвечать за утрату или повреждение найденной вещи либо возврат денег, вырученных от ее продажи (ст. 227, 230).
Чем же описанная ситуация отличается от вверения под отчет чужого имущества с наделением в его отношении определенными полномочиями, как минимум, по хранению? Пожалуй, только двумя обстоятельствами: способом переноса полномочий, каковым является traditio brevi manu , [222]и отсутствием уверенности в возможности обнаружения собственника. Поэтому цивилистическая доктрина с полным основанием относит сохранение находки и безнадзорных животных к разновидностям хранения, [223]специфичного лишь тем, что оно не возникает из договора, а существует в силу зак она , вследствие чего к данному обязательству применяются правила, относящиеся ко всем видам хранения (глава 47 ГК), если только законом не установлено иное (ст. 906 ГК).
С принятием УК 1996 г. состав присвоения находки вновь оказался «за бортом». Однако в свете того, что сказано выше, случившееся можно расценить не как его исключение, а как поглощение общим составом присвоения.
Будь иначе, возникла бы парадоксальная ситуация. Тот, кто сразу вознамерился обратить в свою пользу утерянное имущество и потому не заявил о находке, не может быть уголовно ответственным за присвоение, поскольку не проявил своей воли к принятию этого имущества под отчет, а кто, руководствуясь первоначально лучшими побуждениями, тотчас же заявил о находке и тем самым принял на себя обязательство по хранению чужого имущества, а затем, не удержавшись до окончания срока хранения, употребил его всвою пользу, оказывается виновным в растрате.
Конечно, можно на это возразить, что второго «за язык никто не тянул» и никто не лишал его свободы выбора, а свобода всегда сопряжена с ответственностью. Поэтому, свободно приняв решение о хранении чужого имущества, он взвалил и бремя ответственности за его сохранность. Но справедлив ли закон, искусственно подталкивающий к выбору безответственного варианта поведения? Очевидно, что нет, а выход из состояния неравенства перед законом указанных персонажей к «уравнивающей справедливости» лежит через следующую альтернативу: либо особо установить уголовную ответственность за необъявление о находке для первого и ему подобных, либо считать любое лицо, нашедшее утерянную вещь, обязанным в силу закона к ее хранению и потому уголовно ответственным за ее присвоение или растрату. В свою очередь на каждом из указанных путей также возможны «развилки».
С одной стороны, порядок, в соответствии с которым право собственности на потерянную вещь признается за нашедшим ее лицом при совершении последним определенных действий по уведомлению о находке, существует постольку, поскольку предполагается возможность обнаружения ее собственника. Лишь после истечения отведенного для этого времени появляются юридические и моральные основания считать эту вещь своей. И все же далеко не всякое необъявление о находке может быть продиктовано соображениями воспрепятствования обнаружению собственника потерянного и целями обращения его в свою пользу, в связи с чем ответственность за неисполнение лицом обязанности по уведомлению о находке также придется дифференцировать.
С другой стороны, несмотря на упования на то, что собственник утерянного найдется, всегда присутствует и неуверенность в том, что это произойдет, в связи с чем психологическая окраска поведения лица, присвоившего бесхозяйное имущество, все же иная, нежели у того, кто присвоил имущество, хозяин которого ему известен и от имени которого он владеет имуществом и перед которым он принял на себя определенные обязательства. Поэтому в уголовном законодательстве многих стран присвоение находки хотя и соседствует с присвоением иного имущества, но все же не сливается с ним.
Таким образом, теоретические выкладки убеждают в том, что при отсутствии специальной нормы об ответственности за присвоение найденного содеянное должно квалифицироваться по общей норме, устанавливающей ответственность за присвоение вверенного, несмотря на то, что степень опасности присвоения находки ниже присвоения иного имущества. Однако практика, скорее всего, не воспримет эти выводы, расценивая исключение данной нормы в качестве декриминализации предусматриваемых ею деяний, несмотря на то, что опасность присвоения вверенного по закону (сколь бы она ни уступала опасности присвоения вверенного по договору) продолжает считаться во многих странах достаточной для криминализации. Разрешение этого противоречия видится в восстановлении нормы об ответственности за присвоение находки.
Читать дальше