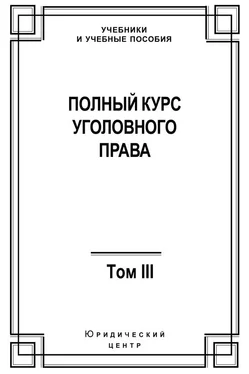Маркс К., Энгельс Ф . Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. С. 9.
В качестве именной ценной бумаги могут фигурировать: а) чеки, содержащие письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в нем сумму; б) векселя , удостоверяющие обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить определенную сумму владельцу векселя – векселедержателю; в) депозитный и сберегательный сертификаты, представляющие собой письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств и удостоверяющие право вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по ней в любом учреждении данного банка; г) коносаменты, т. е. товаро-распорядительные документы, удостоверяющие право держателя распоряжаться указанным в коносаменте грузом, а также получить его после завершения перевозки и обязанность перевозчика выдать груз предъявителю коносамента.
Маркс К., Энгельс Ф . Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. С. 19.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1996. С. 334–335.
Кстати, заметим, что указанный перечень не является исчерпывающим, поскольку законом к ценным бумагам могут быть отнесены и другие документы, отвечающие требуемым признакам.
Пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 декабря 1980 г. (вред. от 6 февраля 2007 г.) «О практике применения судами РСФСР законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте» (БВС РФ. 2007. № 5).
См.: п.6 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 декабря 1980 г. «О практике применения судами РСФСР законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте».
Пинаев А. А . Уголовно-правовая борьба с хищениями. Харьков, 1975. С. 51; Тишкевич И. С . Уголовно-правовая охрана личной собственности граждан. Минск, 1988. С. 9.
Как правильно пишет Б. С. Никифоров, «если субъект, сдавший имущество на хранение другому лицу, затем тайно похищает это имущество или получает его посредством обмана, чтобы предъявить к хранителю претензию о возмещении причиненного собственнику “ущерба”, он должен быть привлечен к уголовной ответственности за приготовление к мошенничеству». А далее он заключает: «Нетрудно, однако, видеть, что в этом случае посягательство имеет своим предметом не имущество, принадлежащее виновному, а имущество, принадлежащее бывшему хранителю» ( Никифоров Б. С . Уголовно-правовая охрана личной собственности в СССР. М., 1954. С. 38).
Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. «О некоторых вопросах применения уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности».
В свое время попытки утвердить некоторые начала диспозитивности в данной сфере предпринимались со стороны Верховного Суда СССР, который в п. 15 постановления Пленума от 3 декабря 1976 г. «О практике применения судами законодательства по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность» разъяснил: «Не должны применяться меры уголовного наказания к несовершеннолетним за кражи у родителей или других совместно проживающих с ними членов семьи, если сами потерпевшие не обращались в соответствующие органы с просьбой о привлечении подростков к уголовной ответственности» (БВС СССР. 1977. № 1). Однако в сменившем его 14 февраля 2000 г. постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» аналогичного положения не содержится (см.: Российская газета. 2000. 14 марта).
См., напр.: Владимиров В. А . Квалификация похищений личного имущества. М., 1974. С. 28; Уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под ред. А. И. Рарога. М., 1996. С. 113; Новый комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. С. Михлина, И. В. Шмарова. М., 1996. С. 242; Хабаров А. В . Преступления против собственности: влияние гражданско-правового регулирования Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 1999. С. 17.
Скляров С . Уголовная ответственность за хищение недвижимого имущества. С. 52, 53.
Этот вывод был сделан до принятия 29 декабря 2004 г. нового Жилищного кодекса (см.: Бойцов А. И . Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 224). Последний устанавливает, что по договору социального найма предоставляются жилые помещения, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации ее субъектам, а также находящиеся в собственности муниципальных образований (ст. 49). При этом пользование жилым помещением по договору социального найма предполагает и владение этим помещением (п.1ст. 60). Более того, хотя среди правомочий нанимателя в данной статье не названо право распоряжения занимаемым помещением, однако, как следует из других норм, регулирующих социальный наем, наниматель вправе осуществлять и ряд распорядительных правомочий, например, вселять в помещение иных лиц, сдавать его в поднаем, разрешать проживание временных жильцов, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения. Вышеприведенные отличительные признаки договора социального найма позволяют считать граждан-нанимателей субъектами ограниченного вещного права. Следовательно, завладение их жильем путем каких-либо махинаций (допустим, при обмене) может квалифицироваться как приобретение права на чужое имущество путем обмана, т. е. хищение в форме мошенничества.
Читать дальше