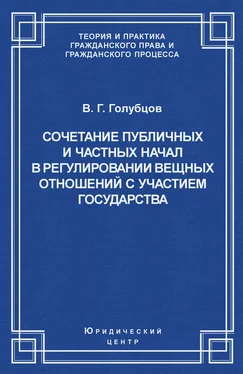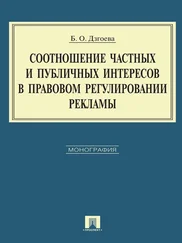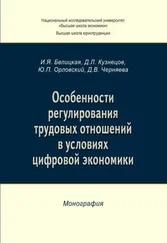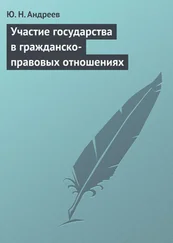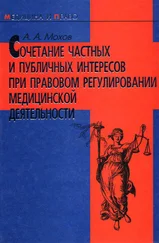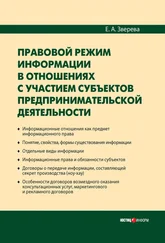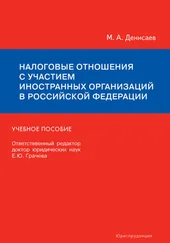Итак, при определении гражданского (частного) права и отграничении его от права публичного в качестве необходимых должны быть приняты несколько критериев, точнее, некая совокупность критериев, представляющих собой иерархическую систему, в которой один из них будет главным, определяющим, все остальные – его своеобразными уточнениями, следствиями, имеющими подчиненный (ориентированный на практику) характер, но в то же время необходимыми для проведения указанного разграничения.
Главным критерием, на котором основывается различие между частным и публичным правом, на наш взгляд, следует признать то, какой интерес лежит в основе конкретного правоотношения – частный или публичный.
Этот критерий, вне всякого сомнения, можно назвать достоянием цивилистической мысли. Возникнув на заре появления гражданского права, эта идея прошла долгий и тернистый путь, периоды безусловного признания и забвения. Не раз на протяжении своего существования она подвергалась критике со стороны авторитетнейших ученых, и порой казалось, что ее век сочтен и она может представлять впредь интерес лишь для ученых, занимающихся историей права. Очень часто за всю историю своего существования теория интереса переживала значительные модификации, которые маскировали или изменяли ее содержание, порой до неузнаваемости. Но, тем не менее, после периодов отказа от этого, единственно верного, на наш взгляд, учения, древняя теория Ульпиана вновь и вновь выходила на первый план при разрешении вопросов о публичном и частном праве.
Сегодня перед российским правом снова встал этот «вечный» вопрос о критерии, позволяющем отделить гражданское (частное) право от публичного. Его решение становится принципиальным для нашего государства, которое еще не имеет сложившейся системы частного права. Неверная постановка вопроса и его нерешенность уже сегодня приводят к сугубо формальному подходу и высказываниям следующего характера: «Граница между публичным и частным правом определяется волей государства, избирающего для регулирования отношений один из двух известных методов…» [70] Ефимова Л. Г. Указ. соч. С. 8.
. При этом ни слова не говорится о критерии, в соответствии с которым государство должно и может выбирать тот или иной метод для регулирования тех или иных отношений. Такая недоговоренность очень опасна для целостности и для самого существования частного права в России, для которой всегда характерным было стремление государства к установлению авторитарных, публично-правовых воззрений во всех сферах жизни.
Именно критерий интереса является той разграничительной линией, которая позволяет отделить права частные и публичные. Иными словами, если конкретное субъективное право имеет в виду частный интерес, то налицо частное правоотношение и частное право, если же, напротив, в результате реализации конкретного субъективного права преследуется интерес публичный, то мы имеем дело с публичным правом.
Заметим, что право в объективном смысле «всегда имеет в виду общественное благо и с этой точки зрения правы те, которые отвергают возможности различия между гражданским и публичным правом, основанного на охраняемых нормами интересов – устанавливает ли законодатель порядок перехода собственности на землю, или порядок вексельного регресса, или организацию министерства, или способ взимания акциза, или меры, предупреждающие бегство преступника – везде оно руководствуется общественным интересом» [71] Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Т. 1. Вып. 1, 1901. С. 62.
. Таким образом, необходимо признать правоту Г. Ф. Шершеневича, который считал, что «различие между публичным и гражданским правом может быть построено, с точки зрения материального момента, только на различии отношений, но не норм» [72] Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Т. 1. Вып. 1, 1901. С. 62.
.
Таким образом, в основу деления права на частное и публичное должно быть положено разграничение интереса, присутствующего в правоотношении, на публичный и частный. «С этой стороны противоположение личности и общества, частной жизни и общественной деятельности, частных и общественных интересов, положения частного лица и представителя власти сознается более или менее всеми и каждым». В соответствии со взглядами Г. Ф. Шершеневича, это такой круг личных и имущественных отношений, которые теснейшим образом окружают отдельное лицо в его повседневной жизни и которые наиболее близки конкретному лицу. «Эти отношения относятся… ко всему тому, что определяется словом „мое“. С точки же зрения государства указанные отношения, очерченные вокруг отдельных лиц и замкнутые для посторонних, не представляют общественного интереса, который имеет целью не то, что происходит внутри каждого из таких кругов личных отношений, а возможность установления наилучших условий совместного их существования и деятельности» [73] Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Т. 1. Вып. 1, 1901. С. 50–65.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу