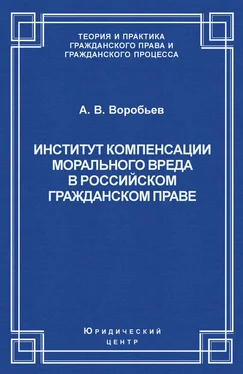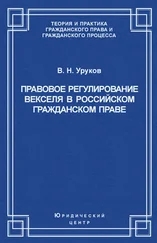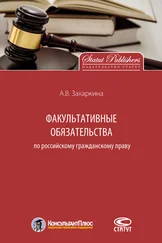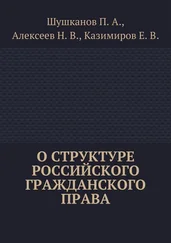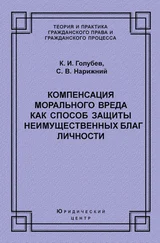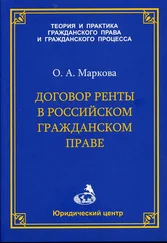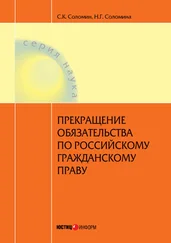1 ...8 9 10 12 13 14 ...24 Все это еще раз подтверждает тезис о том, что основы проблематики института возмещения морального (нравственного) вреда были заложены еще в дореволюционной отечественной цивилистике. При этом представляется, что высказываемые в ходе научных дискуссий аргументы и контраргументы по вопросам юридического закрепления возможности возмещения морального вреда учитывали обычаи и традиции отечественной юридической практики, а также моральные и нравственные устои русского общества, а в современном понимании и отечественного менталитета.
Итак, в дореволюционной отечественной цивилистике были обозначены основные проблемные аспекты компенсации морального вреда, которые являются значимыми и для современной цивилистической теории и практики.
Входе прогрессивного развития отечественного права ко второй половине XIX в. появилось несколько правовых норм, которые могли служить основанием для требования о возмещении морального или нравственного (в дореволюционной правовой традиции) вреда. Данные положения законодательства и имевшие место судебные прецеденты вызвали широкие дискуссии относительно самой возможности, а также нормативном закреплении возмещения морального вреда.
§ 2. Восстановление института компенсации морального вреда в современном гражданском законодательстве
Учитывая дореволюционные цивилистические исследования, а также принимая во внимание позиции советских юристов по рассматриваемым вопросам, можно сделать вывод о том, что в современном гражданском праве произошло фактическое восстановление института компенсации морального вреда.
Дело в том, что в советской юриспруденции юридически закрепленная возможность возмещения морального вреда в денежном эквиваленте практически полностью отвергалась,по крайней мере, до 60-х гг. XX в. (принятие Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.).
По мнению А. М. Зейца, получившему в те годы широкое признание, охрана личных неимущественных прав и нематериальных благ может осуществляться только нормами уголовного права, но не гражданского законодательства. Иная позиция не может иметь места в советском праве как чуждая социалистическому правосознанию. Допущение исков о возмещении морального вреда создаст у потерпевших соблазн использовать факт причинения морального вреда в качестве некоего источника дохода [41] Зейц А. Возмещение морального вреда // Еженедельник советской юстиции. 1927. № 47. С. 1465–1466.
. С сожалением приходится признать, что в данной части суть мнения А. М. Зейца в настоящее время постоянно подтверждается [42] См., напр.: Ратинов А. Р., Ефремова Г. X. Масс-медиа в России. Законы. Конфликты. Правонарушения. 1996–1997. М., 1998. С. 154–157.
. Более подробно данный вопрос исследуется в главе 2 настоящей работы.
С методологических позиций важно отметить, что в дискуссиях о категории морального вреда, которые так или иначе все-таки имели место, в содержание категории «моральный вред» вкладывались те отрицательные последствия, которые наступают при нарушении исключительно личных неимущественных благ. Поэтому возникал вопрос: что следует относить к понятию морального вреда? Нередко оно подменялось понятием неимущественного вреда.
Основное внимание в этом направлении было сосредоточено на том, каким образом можно возместить вред, причиненный таким личным неимущественным благам, как жизнь и здоровье. По мнению Е. А. Флейшиц, имущественное возмещение неимущественного вреда, по существу, представляет собой перевод на деньги таких благ, как жизнь, здоровье, творческие достижения человека. Следовательно, подобное возмещение несовместимо с основными воззрениями советского общества, с высоким уважением к личности человека [43] Флейшиц Е. А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. М., 1951. С. 24.
. А. М. Зейц в этой связи указывал, что возмещение вреда должно пониматься как «восстановление состояния, которое имело или могло иметь лицо, которому причинен вред, если бы таковой причинен не был. Состояние же лица определяется его трудовым доходом» [44] Зейц А. М. Возмещение морального вреда по советскому праву // Ежегодник советской юстиции. 1927. № 47. С. 1466.
.
Данная позиция находила подтверждение и в руководящих разъяснениях. Так, в п. 3 Циркуляра Народного комиссариата юстиции от 3 мая 1927 г. № 81 «О порядке привлечения к уголовной ответственности рабселькоров» подчеркивалось, что «при неосновательных возбуждениях уголовных дел против рабселькоров за клевету, все понесенные последними убытки, в связи с выездами в судебно-следственные органы и с отвлечением их от занятий, должны оплачиваться за счет лиц, возбудивших против рабселькоров неосновательное обвинение» [45] См.: Действующее законодательство о печати. М., 1931. С. 217.
. При этом, очевидно, речь шла исключительно о возмещении материального, но не морального вреда.
Читать дальше