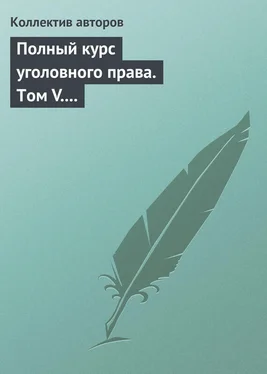Главное в термине «преступления против правосудия» – это акцент на то, что им обозначается не форма деятельности определенной ветви государственной власти, а группа близких между собой отношений, требующих самостоятельной уголовно-правовой защиты («правосудие» в уголовно-правовом значении как объект преступления) [250] Аналогичным образом рассматривают понятие« правосудие » авторы, анализирующие национальное законодательство республик, ранее входивших в СССР(см.: Гулямов З. Х . Общая характеристика преступлений против правосудия в Республике Узбекистан// Журнал российского права. 2002. № 6).
. Несомненно, эти отношения не оторваны от вышеуказанной деятельности, возникают и реализуются в ходе ее осуществления. Однако объем данных отношений в уголовном праве определяется гораздо шире: в них включаются не только те, которые существуют в ходе собственно правосудия, т. е. деятельности суда, но и отношения иных юридических и физических лиц, которые способствуют судебной деятельности, в том числе и по исполнению вынесенных судебных актов. Именно поэтому в уголовно-правовой доктрине термин « правосудие » используется в широком смысле слова.
Поскольку деятельность иных правоприменительных органов, не относящихся к судебным, может быть самой разнообразной, постольку в рассматриваемой главе уголовного закона охраняются лишь те проявления этой деятельности, которые связаны с реализацией задач и целей правосудия.
Видовым объектом преступлений против правосудия являются отношения, возникающие в ходе деятельности суда при осуществлении правосудия, правоохранительных органов, граждан, обеспечивающих соблюдение интересов правосудия посредством реализации его целей и задач и выполнения судебных актов.
Содержание данного определения отражает основной круг общепризнанных охраняемых общественных отношений в сфере правосудия.
Открытым остается лишь вопрос о правомерности выделения в рамках главы о преступлениях против правосудия физической и нравственной защищенности участников судопроизводства и их близких в качестве самостоятельного охраняемого уголовным законом блага. Данная группа правовых норм (ст. 295–298 УК РФ) впервые была сформулирована в действующем уголовном законодательстве и в теории уголовного права получила неоднозначную оценку. В первую очередь это связано с тем, что защита личностных благ: жизни, здоровья, чести и достоинства субъекта, осуществляющего процессуальную и постпроцессуальную деятельность, не охватывается рамками единого охраняемого общественного отношения (правоотношения) в сфере правосудия.
Защита здоровья, чести и достоинства лиц, указанных в ст. 295, 296 и 298 УК, нередко связана с интересами правосудия опосредованно и носит самостоятельный характер. Из чего следует, что в рассматриваемой главе видовой объект преступлений против правосудия включает в себя две группы отношений, хотя тесно связанных между собой, направленных на достижение единого интереса в сфере правосудия, однако обладающих самостоятельным характером. Во-первых, это отношения, охраняющие процессуальную и постпроцессуальную деятельность. Во-вторых, это отношения, охраняющие неотъемлемые личностные блага субъектов данной деятельности и их близких: жизнь, здоровье, честь, достоинство, личную безопасность.
Следует признать оправданной законодательную идею специальной защиты жизни, здоровья, чести и достоинства физического лица, выполняющего или выполнявшего определенные социально значимые функции в сфере правосудия, а равно его близких. Выделение в самостоятельные составы преступлений посягательств на субъектов процессуальных или постпроцессуальных отношений, а также их близких, в первую очередь, связано с обоснованным желанием подчеркнуть особый статус указанных лиц в уголовно-правовой защите. Преступное воздействие на них в момент участия в правоотношениях, после их реализации, а также посягательства на близких им людей в конечном итоге приводят к нарушению интересов правосудия. В этом случае человек, являясь самостоятельным охраняемым объектом (благом), обладает статусом, за которым общество признает право на особую уголовно-правовую защиту, поскольку это непосредственно причиняет ущерб интересам правосудия и оценивается в качестве основного защищаемого блага. Посягательство происходит: во-первых, только на определенный круг лиц; во-вторых, только в связи с определенной сферой их деятельности или деятельности их близких. По этой причине нельзя согласиться с предложением расширить сферу действия ст. 295 УК за счет расширения мотива посягательства (хулиганский, по найму и т. п.) [251] См.: Скляров С. В . Вина и мотивы преступного поведения как основание дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности: Авто реф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2004.С. 28.
.
Читать дальше