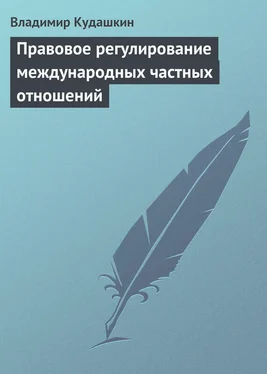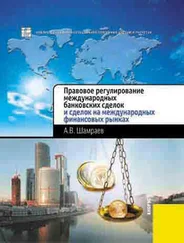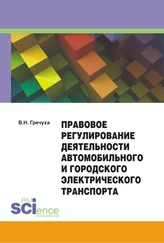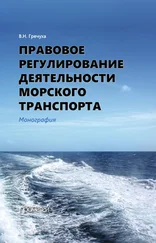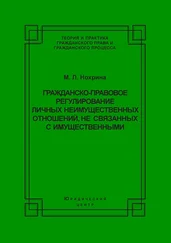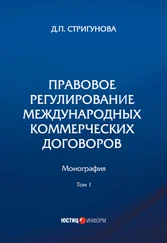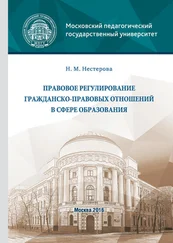Последователем Ф. Ф. Мартенса в дореволюционной науке международного частного права стал Б. Э. Нольде, который считал, что «…международное частное право существует до сих пор как право позитивное лишь постольку, поскольку оно составляет часть внутреннего права того или иного государства» [172] Нольде Б. Э. Указ. соч. С. 455.
.
Именно этот подход был воспринят как основополагающий советской наукой международного частного права. Так, в одном из первых трудов в этой области, созданных в советский период, И. С. Перетерский подчеркивал: «Поскольку большинство норм международного частного права основывается на внутреннем законодательстве, идея “общего международного частного права” является лишь абстракцией или утопией, и в действительности имеется “французское международное частное право”, “английское международное частное право” и международное частное право РСФСР…» [173] Перетерский И. С. Очерки международного частного права РСФСР. С. 16.
В последующем в рамках данного подхода оформилось два направления. Первое представлено сторонниками отнесения международного частного права к гражданскому праву в качестве его особой части (О. Н. Садиков, А. Л. Маковский, И. А. Грингольц, И. В. Елисеев и др.). Второе направление охватывает ученых, считающих, что международное частное право составляет самостоятельную правовую отрасль (И. С. Перетерский, В. П. Звеков, М. М. Богуславский, Г. К. Дмитриева, М. Г. Розенберг, Г. Ю. Федосеева и др.). Участие в спорах о структурной природе международного частного права не является задачей настоящего исследования, поэтому данная проблема рассматриваться не будет. Теоретический интерес представляет прежде всего вопрос о системной принадлежности международного частного права, т. е. входит ли оно в одну из известных правовых систем (международного права или конкретную национальную правовую систему), либо же представляет собой самостоятельное правовое явление. С этой точки зрения в рамках второго подхода международное частное право рассматривается сторонниками обоих направлений как право внутригосударственное.
Третьим подходом к определению природы и места международного частного права в системе социально-экономических отношений общества является рассмотрение его как самостоятельного системного явления, тесно связанного и с системой международного права, и с национальными правовыми системами. В наиболее законченном виде этот подход представлен в исследовании Р. А. Мюллерсона «О соотношении международного и национального права» [174] См.: Мюллерсон Р. А. Соотношение международного и национального права.
, который обосновал существование международного частного права в качестве полисистемного комплекса.
В науке международного частного права утвердилось мнение, что основоположником данного подхода является А. Н. Макаров. Так, у М. М. Богуславского читаем: «В литературе получила развитие и третья точка зрения, которая первоначально в 20-е годы была высказана А. Н. Макаровым, а затем разработана Р. А. Мюллерсоном. Согласно ей нормы международного частного права, регулируя международные отношения невластного характера, состоят из двух частей, а именно из определенных частей национально-правовых систем и определенной части международного публичного права» [175] Богуславский М. М. Международное частное право. М., 1998. С. 26.
. Аналогичные утверждения можно встретить у Г. Ю. Федосеевой [176] Федосеева Г. Ю. Международное частное право. М., 1999. С. 28.
и Л. П. Ануфриевой [177] Ануфриева Л. П. Указ. соч. С. 89–90.
.
Вместе с тем данное утверждение не соответствует действительности. Обратимся к первоисточнику. В своей работе «Основные начала международного частного права» (1924 г.) [178] См.: Макаров А. Н. Основные начала международного частного права. М., 1924. С. 25.
А. Н. Макаров пишет: «…я должен остановиться и на существующем в науке разногласии – признавать ли международное частное право правом международным или правом внутренним государственным… Можно было бы… предположить, что национальные коллизионные нормы покоятся на неписанных, обычно-правовых нормах международных, но предположение это решительно опровергается пестротой содержания национальных коллизионных норм. Следовательно, приходится признать безоговорочно национальные коллизионные нормы нормами внутреннего государственного права… Я склонен утверждать, что все расхождения между так называемыми “интернационалистами”, т. е. сторонниками международно-правовой природы международного частного права, и “националистами”, признающими эту отрасль правопорядка внутренним правом отдельных государств, имеют почву лишь постольку, поскольку речь идет о восполнении пробелов положительного коллизионного права». И далее: «Для меня лично, теорией, отвечающей современному уровню международного права, является теория раздельности двух правопорядков – международного и государственного. Логически неизбежным выводом этой основной теоретической предпосылки является признание раздельности и коллизионного международного и государственного права. Если так, нельзя заполнять пробелы внутреннего государственного коллизионного права правовыми началами коллизионного международного и обратно, пробелы международного коллизионного права правовыми началами отдельных национальных коллизионных систем» [179] Там же. С. 26.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу