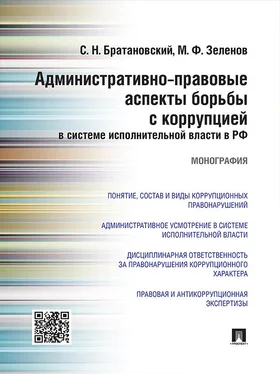На первый взгляд, мало кто согласится, что любое коррупционное проявление является противоправным. Действительно, существует масса способов коррупционного поведения, которые не охватываются нормами действующего законодательства. Взять хотя бы лоббизм, допустимые границы которого законодателем все еще не очерчены 87. Однако в данном случае речь идет о пробелах в законе, но не о праве как таковом. Проблема соотношения права и закона относится к числу вечных вопросов юридической доктрины.
Еще в советское время при доминирующем позитивистском понимании права и законности Г. В. Мальцев отмечал, что если рассматривать право как явление общественной жизни, то законы являются правом лишь в той мере, в какой они верно отражают динамику объективного общественного развития 88. Иными словами, право отличается от закона как должное от сущего. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин отмечает, что право нельзя отождествлять с позитивным законом, который по своей сути есть только форма права. «Право как норма свободы, как масштаб равенства и справедливости в политическом сообществе является сущностным содержанием закона. <���…> Право возводится в форму закона» 89.
Здесь нужно отметить, что проблема разграничения права и закона в постсоветской юридической доктрине получила широкое освещение в трудах представителей либертарно-юридической концепции права. В. С. Нерсесянц отмечал, что «концепция различения права и закона (в различных ее вариантах), отвечая на вопрос о том, что есть право, позволяет раскрыть объективные сущностные свойства права, наличие которых в законе (позитивном праве) позволяет характеризовать его как правовое явление…» 90. Сторонники данного подхода исходят из представления о праве как о кантовской «вещи в себе», которая обладает изначально заданными трансцендентными характеристиками. Г. Гегель в свое время отмечал, что возможна «коллизия между тем, что есть, и тем, что должно быть, между в себе и для себя сущим правом, остающимся неизменным, и произвольным определением того, что есть право» 91. Для последователей либертарно-юридической теории основным параметром такого «в себе сущего» права является принцип формального равенства.
Мы не будем подробно рассматривать достоинства и недостатки либертарно-юридической теории, поскольку это не входит в задачи данного исследования. Отметим лишь, что для нас она неприемлема с методологической точки зрения: существование надпозитивного права в виде «трансцендентной идеи» (Платон) или «вещи в себе» (Кант) ничего не дает с гносеологической точки зрения. Более того, апелляции к чистому праву в противовес позитивному закону зачастую приводят к известному принципу contra legem (вопреки закону). Как справедливо отмечает В. К. Егоров, «если нарушается закон, то для обоснования этого нарушения используются аргументы из дискуссий о соотношении права и закона, о легальности и легитимности, букве и духе законов и т. п.» 92Ю. А. Тихомиров также полагает, что абстрактными представлениями о праве «законодательству наносится тяжелый удар, и это ведет к весьма пагубным последствиям: разрушается единая база общеобязательности законов, и дается легальный повод… игнорировать, менять частично… раздувать костер «подзаконного правотворчества», а это ведет к «правовому нигилизму, падению престижа конституционного и законодательного статуса органов»» 93.
На наш взгляд, вместо разграничения права и закона в морфологическом плане следует говорить о возможных несовпадениях духа и буквы закона в плане семантическом, т. е. его смысла, социального предназначения и текстуального выражения правовых норм. Закон может быть несовершенным или даже неправовым. Например, сегодня остро стоит проблема коррупциогенных законов, открывающих широкие возможности для различного рода проявлений коррупции. В этой ситуации коррупционное поведение будет формально непротивозаконным, но противоправным по сути.
Государственная служба по своей сути означает служение государству, что предполагает обязанность исполнения государственным служащим своих должностных полномочий надлежащим образом от имени и в интересах государства. С этой позиции любое использование государственным служащим своих полномочий в личных целях является нарушением данной обязанности, а следовательно, представляет собой противоправное поведение. Таким образом, мы полагаем, что любые проявления коррупции в системе государственного управления по существу противоправны, поскольку посягают на нормальное функционирование государственного аппарата.
Читать дальше