Т. М. Морщакова высказала мнение, что хотя КС – орган высшего конституционного надзора, но его нельзя назвать высшим судебным органом, потому что этот термин как бы ставит названный суд над системой других судов, что не вполне соответствует действительности. А система конституционных судов республик не может рассматриваться как стоящая под Конституционным судом: их компетенция не перекрещивается (т. 11, с. 5–6). Другой Судья КС – Б. С. Эбзеев – возразил, что пользоваться понятием «Конституционный Суд – орган надзора» неверно по существу. КС может быть только органом конституционного контроля. Его правовая природа заключается в том, что, будучи судом, органом конституционного контроля, он в любом государстве является одновременно «одним из высших органов государственной власти». По этой причине, по мнению Б. С. Эбзеева, КС должен характеризоваться двумя формулами: «высший судебный орган» и «орган конституционного контроля» (т. 11, с. 6–7).
Однако по указанной проблеме не было достигнуто согласованного решения, и, как следствие, действующая Конституция Российской Федерации не содержит определения понятия «Конституционный Суд РФ» (в отличие от других высших судов). Оно дано в статье 1 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года «О Конституционном Суде Российской Федерации», в формулировке, сложившейся под влиянием дискуссий на Конституционном совещании, а затем в палатах Федерального Собрания Российской Федерации 79.
Правовая природа КС предопределяет назначение и роль этого органа в стране. Участники совещания и эксперты различали политические и юридические аспекты этой проблемы. Многие из них видели в суде «третий балансир в системе разделения властей как по горизонтали, так и по вертикали между правительством и парламентом, между федеральными и местными властями», «стабилизатор политического равновесия в государстве», защитника прав человека через признание неконституционной правоприменительной практики (т. 11, с. 33; т. 18, с. 223; т. 19, с. 390). Некоторые участники совещания, в частности посол РФ в США В. П. Лукин, подчеркивали роль КС как гаранта Конституции и в этом аспекте ставили под сомнение монополию президента на обеспечение и охрану Конституции. Профессор В. Е. Чиркин, соглашаясь в принципе с такой позицией, акцентировал внимание на том, что конституционные суды и советы выполняют функции гаранта Конституции иным образом, чем глава государства, и нередко последний обеспечивает их при помощи передачи законов на рассмотрение органов конституционного контроля (т. 6, с. 56). В подобных случаях, на наш взгляд, оба института государства – президент и Конституционный Суд – солидарно выполняют функцию гаранта Конституции.
Вместе с тем юридическое предназначение КС в одном единственном, ради чего он создан, – выносить решение по вопросу соответствия Конституции актов или действий должностных лиц. «И никакой политической окраски, никаких политических условий… И только по соображениям юридического, но не политического характера», – подчеркивал на совещании А. А. Собчак (т. 18, с. 223). Таким образом, был заложен один из важных принципов конституционного правосудия: КС решает только правовые вопросы. Позднее он нашел свое нормативное закрепление в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (ст. 3).
Логическим развитием этого принципа явилась рекомендация совещания об исключении права КС по собственной инициативе возбуждать и рассматривать вопросы и споры, относящиеся к его компетенции. Этот вопрос неоднократно обсуждался. Несмотря на то что отдельные участники совещания, например Е. В. Савостьянов (Москва), полагали, что КС мог бы рассматривать вопросы и по своей инициативе, «когда он сталкивается с законом… противоречащим Конституции, особенно если это связано с нарушением конституционных прав и свобод граждан» (т. 19, с. 390), большинство высказалось против этого (т. 9, с. 133; т. 19, с. 283). Член Президентского совета Л. В. Смирнягин заявил, что КС «самочинно» не должен решать конституционные споры. «Он просыпается, так сказать, у себя на Олимпе только в случае, если к нему обращаются снизу…» (т. 7, с. 40). Эта рекомендация была использована в ныне действующем ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Самостоятельность и независимость КС в определенной мере зависит от порядка его формирования, причастности к этому процессу других ветвей власти, степени распространения на судей принципа несменяемости, количественного состава судей, позволяющего создать эффективную организационную структуру по осуществлению полномочий конституционного правосудия. Все эти вопросы оживленно и остро обсуждались на совещании.
Читать дальше
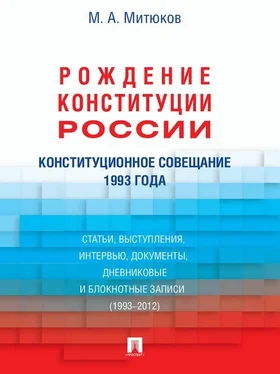



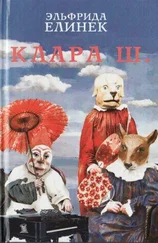
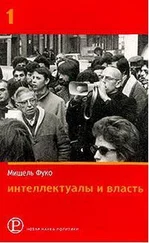

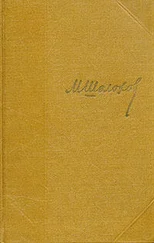
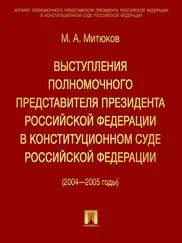
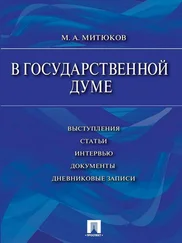
![Игорь Иванов - Внешняя политика России в эпоху глобализации [Статьи и выступления]](/books/424087/igor-ivanov-vneshnyaya-politika-rossii-v-epohu-globa-thumb.webp)