Каждая норма, регулирующая право на достойное существование, должна иметь не только технико-организационное, либерально эгалитаристское измерение (с гарантированным наказанием за превышение властных полномочий или злоупотреблений ими), но также измерение и толкование моральное (B. C. Нерсесянц, Е. А. Скрипилев и др.).
Более реалистично рассматривает положение о социальном государстве В. Е. Чиркин. Он считает его ключевым положением современного конституционного права (хотя и не видит пока результатов его реализации). Тем не менее это положение, по его мнению, имеет «ориентирующий характер» как для государства, так и для его граждан. Оно созвучно идеям социальной солидарности, социальной справедливости, социальной поддержки (кстати, эти принципы в качестве аналогов «социального государства» используются конституциями многих, в том числе и западных государств). «Многие из этих норм, – пишет ученый, – особенно в условиях российской действительности, будут иметь лозунговый характер, но это необходимые, «ориентирующие» лозунги… Такие нормы необходимы в качестве целевых задач органам государства. Юридическая сторона проблемы заключается в том, как их сформулировать» 66. К этой позиции примыкает мнение Ж. Х. Македонской о том, что «признание нашего государства социальным на сегодняшний день надлежит рассматривать скорее не как реальность или состоявшееся явление, а как одну из первостепенных задач, которую предстоит решить в ходе реформирования России». Тем более она оптимистически полагает, что возрастает роль Российского государства в формировании и реализации социальной политики. К положительным моментам исследования этого автора следует отнести и ее своеобразный взгляд на развитие идеи социального государства в мировом аспекте через нарастание мощностей реализации им социальных функций. Она выделяет пять этапов в истории социального государства: 1) контроль за бедностью (XVII–XVIII вв.); 2) социальное страхование для рабочих, объединенных в профсоюзы; 3) развитие социальных услуг как элемент гражданства (1918–1960 гг.); 4) улучшение качества жизни (1960–1975 гг.); 5) замедление в развитии социального государства, характеризуемое новым смешением государственной ассоциативной и частной ответственности 67.
4. Конституционные основы и правовой механизм социального государства. Для социального государства существуют одно корневые (аналогичные) основы, что и для правового демократического государства: верховенство Конституции, разделение властей, свобода собственности, приоритет прав и свобод человека и гражданина, конституционное правосудие. Попытка отдельных ученых разделить эти основы на несколько компонентов – политические, социальные, материальные, конкретные социальные права и свободы – малопродуктивна, поскольку «социальное» в государстве находится в неразрывной скрепе с понятиями «правовое» и «демократическое». Последние явления комплексные и могут участвовать только в неразрывной связи: не может быть «социального государства», не являющегося «правовым», не может быть «демократического государства», не представляющего собой «социального государства».
Конституционное совещание: дискуссии в группах о соотношении Конституции и Федеративного договора 68
(по материалам стенограмм по состоянию на 7 июня 1993 г.)
На первом заседании группы представителей федеральных органов государственной власти по доработке Конституции РФ возникли дебаты по вопросу является ли Федеральный Договор неизменной частью Конституции либо он лишь содержательно должен стать ее частью. Сторонники второго подхода стремились Конституцию и ее значение, по выражению одного из спорщиков, «поставить намного выше, чем документ, который называется Федеративным договором».
Дискуссия вызвана обсуждением поправок к ст. 2 президентского проекта. Ее текст: «Россия является федеративным государством – Российской Федерацией, объединяющей субъекты Федерации на основе Конституции и Федеративного договора как ее неотъемлемой части». Администрации Астраханской и Ярославской областей предложили уточняющую редакцию этой статьи, исключающую ссылку на Федеральный Договор. Верховный Совет и Правительство Кабардино-Балкарской Республики, УВД Мурманской области, наоборот, потребовали в указанной статье поставить на первое место Федеральный Договор, а затем Конституцию РФ.
Против первой поправки выступил А. И. Казанник, полагающий, что «стоит нам из второго раздела Конституции убрать договоры о распределении полномочий, как… на местах появятся такие националистически мыслящие меньшинства, которые поставят вопрос о выходе субъектов из состава России». Возражая ему, С. Ф. Засухин заявил, что «совещание собрано не в угоду национальным меньшинствам, а как раз для того, чтобы найти согласие среди большинства. Поэтому я поддерживаю эту поправку».
Читать дальше
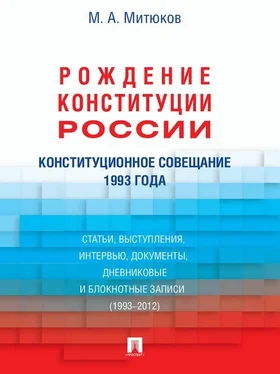



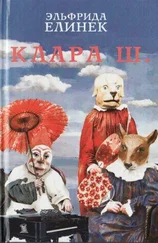
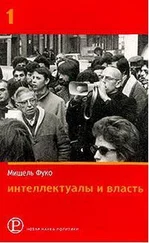

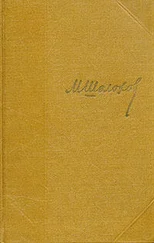
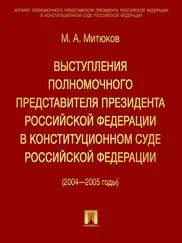
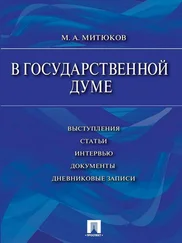
![Игорь Иванов - Внешняя политика России в эпоху глобализации [Статьи и выступления]](/books/424087/igor-ivanov-vneshnyaya-politika-rossii-v-epohu-globa-thumb.webp)