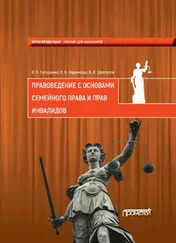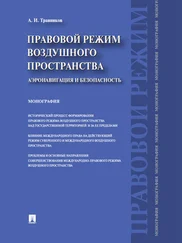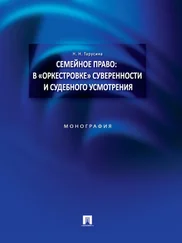Принимались и совершенно не тривиальные по тому времени решения, основанные на нравственном начале и в интересах детей. Так, в деле Дмитриевых по спорам с княгиней Трубецкой было признано, что право родителей настаивать на возврате ребенка от лица, самовольно его удерживающего, не является безусловным, ибо в жизни могут быть ситуации, когда «интерес детей необходимо требует оставления их на попечении лиц посторонних» (Дмитриев отдал свою дочь на воспитание княгине Трубецкой, а по прошествии длительного времени потребовал ее возврата) [101].
Традиционно с большим трепетом в сердце и филологически выраженной эмоциональностью о «жизнесплетениях» споров о детях размышляет А. Л. Боровиковский: действительно, жена «подвластна» мужу как главе семейства, но это не может лишить ее власти над детьми, «мало того, – продолжает автор, – мать не вправе поступаться своею властью над детьми, ибо это могло бы значить поступаться счастьем детей. …Понятие о родительской власти, о “праве” на детей – есть капля, тонущая в бездне понятия об “обязанностях” перед детьми». Родители, за исключением возмутительных случаев противоположного свойства, продолжает автор, «спорят о том, кто из них способен лучше позаботиться о детях, доставить им больше счастья. В такой постановке вопроса – и ключ к его разрешению: надо найти такое решение, которое принесет больше пользы детям… А priori можно, пожалуй, сказать, что заботы об обучении детей, достигших соответствующего возраста, более посильны отцу, чем матери. Но с такою же уверенностью нужно предположить, что в очень раннем возрасте – дитяти необходимее мать, чем отец… Житейский опыт подсказывает мне и другую презумпцию: надо предположить большую заботливость о ребенке за тою стороной, у которой он находится. Дети – могущественнейший цемент, связующий семью; даже враждующие супруги крепко скованы колыбелью дитяти. Нет той супружеской обиды, которую не был бы способен вытерпеть родитель – лишь бы не разлучиться с ребенком. Если жена оставила дом мужа, покинув там и детей, – презумпция противнее; если муж, не удержав при себе жену, отпустил с нею и детей, – презумпция против него». Поскольку семейные раздоры, продолжает автор, происходят на глазах детей, и они довольно рано склоняются своими симпатиями на ту или иную сторону, следует, если речь идет о детях такого возраста, когда выбор им стал более или менее доступен (хотя бы и инстинктивно, но с чистым сердцем), нельзя упускать его из виду, хотя и с осторожностью [102].
А. Л. Боровиковский приводит краткое описание дела, в котором он участвовал в качестве члена Судебной палаты.
«Просительница жаловалась Окружному Суду на постановление Дворянской Опеки, коим определено: 1) приготовить и поместить в Московский кадетский корпус малолетнего N. (сына просительницы от первого брака) – предоставить опекунше, бабке малолетнего, и 2) за неисполнение требований Опеки привлечь по мировому уставу опекуншу – мать, предписав ей в срок трехдневный доставить метрику в Опеку, без каковой метрики малолетний не может быть определен в корпус. Окружной Суд оставил жалобу без последствий. На определение суда принесена жалоба Судебной Палате.
Обсудив дело, Судебная Палата находит, что приведенное постановление Опеки стесняет родительскую власть просительницы без законных к тому оснований. Если и предположить, что бабка малолетнего имеет больше, чем мать, материальных средств к его воспитанию, то это отнюдь не оправдывает постановления Опеки, ибо родительские права принадлежат родителям независимо от того, как велики их средства, и не могут быть стесняемы в пользу других родственников, хотя бы и более богатых. В данном случае просительница не желает отдать сына в корпус, а предпочитает воспитать его в реальном училище, и на такое распоряжение воспитанием сына она имеет несомненное право. Ввиду сего первая часть постановления Дворянской Опеки представляется неправильною. Засим сама собою падает и вторая часть того постановления, ибо коль скоро Опека не вправе была распоряжаться воспитанием малолетнего вопреки воле его матери, то и требование для этой цели метрического свидетельства не имело основания.
Согласно сему Судебная Палата, выслушав заключение Товарища Прокурора, постановляет: обжалованные определения Окружного Суда и Дворянской опеки отменить» [103].
Комментируя данное постановление, А. Л. Боровиковский размышляет: «Осчастливило ли мальчика наше разрешение спора о нем? Едва ли бабка и мать спорили о преимуществах военного или гражданского воспитания; по всей вероятности, бабка добивалась отдачи мальчика в закрытое учебное заведение, в дальнем городе (кадетский корпус имеется и ближе, в Полтаве, а избирался московский), добивалась удаления мальчика из семь и, усматривая для него какие-либо неблагоприятные для него условия (мать за вторым мужем). Быть может, ссылка на средства была лишь благовидным предлогом, которым прикрывались другие соображения – щекотливые, неудобные для оглашения в официальных бумагах? Все это невольно приходило на мысль, но лишь в виде догадок, к проверке которых палата не имела никакой возможности.
Читать дальше