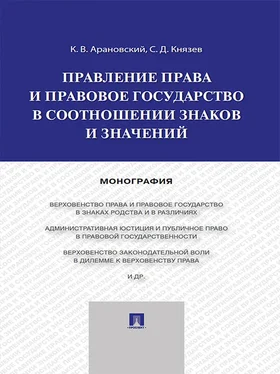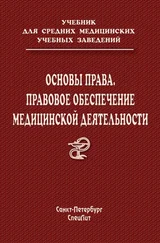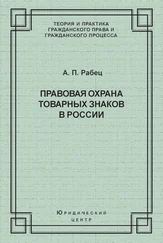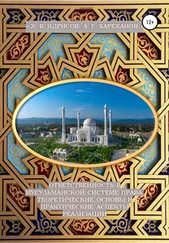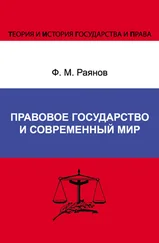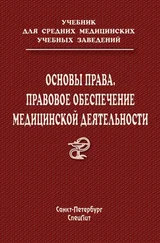Не будь народовольческих «истин», до крайности просиявших у Ж. Ж. Руссо, волю вряд ли так дружно и убежденно приписали бы народным общностям уже по той очевидности, что способность желать человек всегда исполняет сам, оставайся он в согласии с посторонними или врозь, на свободе или даже в угнетении. Он не может влить свои волевые отправления в «общий котел», где они вправду перекипели бы в совокупный волевой итог 79. Г. Еллинек писал: «…из воли многих психологически никогда не возникает единая воля, а всего менее, если большинству противостоит несогласное с ним меньшинство» 80. Конечно, народная общность состоит из людей и создает социальную обстановку, многое предрешая в желаниях человека. От этого, однако, она не обзаведется мозгом, нервами и не станет сверхчеловеком со своей собственной волей, как и прочими частями психики, скажем, разумом или сердечностью, если смотреть на дело без фантазии. «Разве не каждый из нас в отдельности имеет свой собственный разум?», – писал Августин 81; и точно так же при всем своем единстве ни народ, ни народное государство, ни сама Отчизна не «отрастят» себе единого сердца, даже если трогательно спеть о « сердце Родины, сердце едином » 82. Можно многое связать и уподобить в метафоре, вливая кровь и оживляя плотью или душою все, что нужно к себе приблизить в чувственном влечении и сделать своим из политической, скажем, надобности. Метафора, впрочем, дает лишь подобие, в котором близкие вещи стоят все-таки врозь: сказать, что весь народ, словно один человек, чего-то желает, значит всего лишь, что поведение значительного числа людей просто напоминает волевую деятельность, но еще не означает, что народ и вправду единодушно изловчился и чего-нибудь пожелал в каком-то подобии общего телепатического сеанса. Однако там, где слабоватые подобия не дают полноверия, а «учение» Руссо еще не рассеяло мрак своим светом Разума, остается в силе воображение. С ним человек, если себе позволит, сумеет все так разглядеть без метафорических подобий и политических «наук», что вера во все хорошее перемешается в нем с прозой обыденной власти, и оживет тогда сама социальная плоть, как наяву, а в ней и душа народа будет источать и свою мечту, и непреклонную к ней волю 83.
В прозаической действительности каждый, если удержится от фантазии, сможет в спокойном наблюдении заметить вокруг себя, в себе либо вызвать из памяти отрезки событий или полную их череду, которая начнется с проживания чьей-нибудь воли, продолжится знаками-актами повеления, восприятием этих знаков людьми, обработкой и переработкой их смысла вплоть до полного их измышления заново, а потом, возможно, последует возбуждение в людях различных мотивов покорности (и с угнетением обратных мотиваций), чтобы все завершилось собственно повиновением в их поведении, которое и делает человека подвластным – каждого по-своему вовлеченным в отношения власти то в осмысленной бодрости, то в бессмысленно-тихой покорности, то в рассудительно-неохотном смирении. Повиновение и покорность, при всех различиях эмоционального, умственного напряжения, во всяком случае составляет решающее условие властвования – без подчинения или смирения не бывает ни подвластных, ни, соответственно, власти. Прожитые желания, решительные изъявления остаются тогда в движениях фантазии, в границах личной психики и могут проступить в смешной, бесплодной распорядительности, когда никто не ответит ни деятельным повиновением, ни терпеливым согласием.
Власть вслед воле не состоится, если волю не выразить в распорядительных знаках, если окружающие их не воспримут или, не имея к тому мотивов нужного качества и достаточной силы, не ответят на них покорностью и тем более если встретят распорядительность безразличием, насмешкой или сопротивлением. Бывает, что знаки волеизъявления невнятны и непригодны, чтобы сообщить волю, или восприятие и понимание не способны их получить и усвоить. В общем, цепь событий между волей и повиновением на любом из участков рвется, чтобы «при всем желании» власть вовсе не состоялась или произошла бы в безнадежном расхождении с плохо изложенным, неверно понятым властвующим намерением и чтобы желания не сбылись во властвующих последствиях 84.
Воображение, однако, позволяет опустить перерывы в этой последовательности или представить их как что-нибудь частное, а в ней самой увидеть постоянную связь, восстановить пропущенное и так все упростить, что воля покажется самой властью и обе они совпадут в совместном образе. Столь же непринужденно представляют власть в произнесенном или записанном повелительном слове, потому что повиновение и слово иногда явно связаны. Так, латинское auctoritas перестало быть просто изложенным мнением или наущением и, отдаляясь от своего первого значения ( высказанное суждение ), оборотилось властвующим решением и самой властью – сначала словесно-распорядительной, обыденно-публичной ( potestas in populo ), а потом и верховной властью в сенате – auctoritas in senatu , с которой связали право произносить сам закон ( auctoritatem legum ). Сходным образом в славянских представлениях к словам, собравшимся в гнезде корня « казать » ( показывать, выказывать, наказывать – свидетельствовать, делать явным, поучать) со значением зрительно-речевого действия, выполняемого от себя, примыкают обозначения правовых и властвующих деяний 85: с юридическими последствиями заказывают работу и товар, отказывают наследство, оказывают услугу, дают показания, доказывают, отказывают , обязывают политическим наказом, приказывают и, наконец, само право предпишут и отменят указом .
Читать дальше