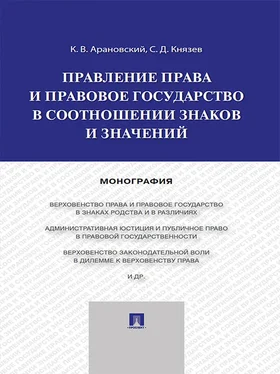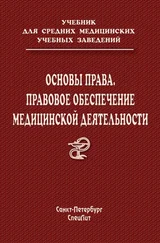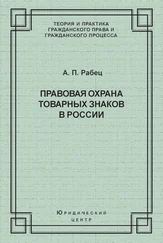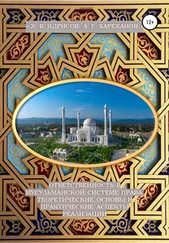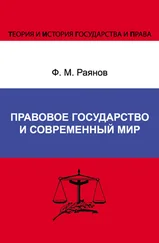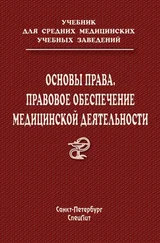С ростом психических способностей духовные силы кажутся порой столь значительными, что их уже не поработить предрешенностью правил, особенно когда религиозный призыв велит вывести волю и ум, эмпатию и прочие силы духа 63из тесноты табуированных запретов и навязанной ритуальной протяжности 64. Правда, в избытке чуткости, во внимании к тонким влечениям, предвкушая с ними все, чем соблазняют ум и хотение, можно ослабеть в социальных рефлексах, теряя святость правил и всякую святость, когда кажется, что на свободе воля ничем в последнем счете не связана и вполне готова господствовать. Эти крайности проступают как на подъеме, так и в этическом, эмоциональном упадке, когда неспособность к праву в спокойном, длящемся и верном чувстве люди замещают одушевленной неровной подвижностью, в том числе в законодательстве, ниспровергая запреты и правила, сочиняя новую справедливость из глубин свободной будто бы воли или от беззаконной прихоти 65. Есть и другая крайность, когда в бесчувствии, в бедной религии, не давая опоры духу, общности вязнут в бездушных порядках, лишают себя энергии политической власти, народного будущего и надежд на свободу 66. Все это, однако, не отменяет самих этических тяготений, обсуждать которые можно безотносительно к тому, непрерывны они или порывисты, пришли в упадок или господствуют в крайностях.
Среди условий, определяющих разницу между этикой закона и пневматической этикой воли, нужно учесть и коренные расхождения в понимании добра (и зла). Ранний и простой образ добра обращен к объективному благополучию в питании, безопасности и здоровье, в обладании силой и победе над соперниками, в господстве над предметами и пространством, в солидарности, социальном ранге. Затем при хорошем самочувствии и свободе от страха и стресса в образе блага больше участия принимают эйфорическое насыщение, эмоциональное удовольствие, ценность общения, симпатии, осмысленного и протяженного во времени чувства, воображения и мечты. Оба типа удовлетворения взаимосвязаны, и как духовное удовольствие не может быть вполне самородным (эндогенным), но решительно порой зависит от обстановки и вызовов среды, так и объективному благу нужно, чтобы вещь, событие, отношение были не просто реальностью, а что-нибудь значили как явление, т. е. явились бы человеку, способному эмоционально, образно, умственно включить их в собственный мир, освоить и, может быть, сделать их ценностью, которая, как и явление, возможна лишь с участием человека, который что-нибудь ценит, чем-нибудь дорожит. Внутренний мир, однако, и внешний мир человека не составляют один другому исчерпывающих, всегда решающих причин и подчиненных следствий – как предметы и состояния действительности условно самодостаточны, так и психика, при зависимости ее от среды, автономна хотя бы в том, что биохимические, психосоматические движения, не говоря уже о движениях «свободного духа», протекают не просто в реакциях на раздражения, но и по внутренним своим законам, которыми человек сам живет, мыслит и чувствует в эйфорическом и дисфорическом направлениях. Когда в утолении жизненных нужд люди больше сориентированы к предметной обстановке, ищут радостей среди предметов и в плотском чувстве, то и в образах добра, счастья и блага ударение останется на вещественных ценностях, в знаках благополучия и успеха. Если же добра больше ждут от полного чувства, проживания смысла, опираясь на удовольствия этого типа, то и акцент в понимании блага, влечение к нему сместятся к душевным, прежде всего, состояниям вплоть до совершенства духа, а мирское станет им просто средством и материалом.
Один тип ориентации примыкает к магическому мировидению, где он вернее всего поддержит этику закона с ударением на материальность и правящий закон, силой которого прибывают и благо, и злые несчастья. Другая ориентация вернее исполнится в религиозном измерении и проявится там, кроме прочего, в одухотворении, антропоморфизме высших сил, на которые люди перенесут собственные способности к мысли и воле. Все люди знают вещественный мир со своим положением в нем, все как-нибудь чувствуют в нем присутствие магии, все, в общем, знают религиозное чувство, и в каждом человеке все это расставлено в неодинаковых соотношениях и акцентах. А кроме того, целыми племенами и народами люди вступают однажды в решающее для себя время, где и застигает их миг рождения, смута со смертельной опасностью, великая победа или порабощение, за которыми встают какое-нибудь сочетание направления чувства и его «пропорции», соотношения и акценты в ценностях, идеях, способах поведения и застывают надолго, если дать время. С тем образуется народное мировидение, где главные акценты сделаны, смыслы и предпочтения расставлены, а принципы и основные правила замерли, оставляя народную общность в ее особом укладе с представлениями добра и блага, в этических ее ориентирах.
Читать дальше