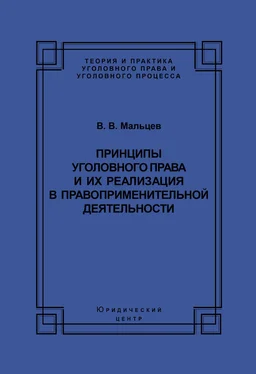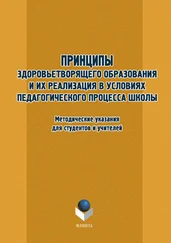Тем не менее «нравственный мотив» (если под ним понимать нынешние вину или ее степень) и помимо того, о чем писал В. О. Ключевский, в том законодательстве был достаточно хорошо представлен. Прежде всего он находил выражение в круге деяний, наказуемых по «Русской правде», большинство из которых предполагало отчетливое понимание социального значения. Так, человек в здравом уме и тогда ясно осознавал, что, ударяя другого батогом, мечом в ножнах, укрывая раба (ст. 3, 4, 11 Краткой редакции 150 150 См.: Там же. С. 47.
) либо используя без спроса чужого коня, похищая зерно из закрытого помещения, поджигая гумно или двор (ст. 33, 43, 83 Пространной редакции 151 151 См.: Там же. С. 66, 67, 70.
) и т. п., он тем самым причиняет ущерб потерпевшему и нарушает правила поведения в обществе, санкционированные князем.
В «Русской правде» вина получала и свое непосредственное выражение. Так, согласно ст. 54 Пространной редакции, невозвращение купцом долга являлось основанием уголовной ответственности лишь тогда, когда, говоря современным языком, банкротство наступило в результате его злоупотребления спиртным и т. п. действий. Невиновное причинение ущерба, однако, не исключало его гражданско-правовой ответственности 152 152 «54. Аже которыи купець, кде любо шед с чужими кунами, истопится, любо рать возметь, ли огнь, то не насилити ему, ни продати его; но како начнеть от лета платити, тако же платить, зане же пагуба от бога есть, а не виноват есть; аже ли пропиеться или пробиеться, а в безумьи чюжь товар испортить, то тако любо тем, чии то товар, ждут ли ему, а своя им воля, продадять ли, а своя им воля» (Там же. С. 68).
.
Разумеется, тогда законодатель вряд ли разбирался в нюансах разграничения форм и видов вины, не придавал такому разграничению должное (подчеркнем, лишь с позиций сегодняшнего дня) значение. Однако то, что называется содержанием вины 153 153 «Отрицательное отношение лица к интересам общества, будучи строго конкретным и индивидуальным в каждом случае, вместе с тем представляет собой то общее, что объединяет умысел и неосторожность как формы вины, что придает им значение социальных, морально-политических категорий. Поэтому содержание вины при ее определении должно быть выдвинуто на первый план» ( Тихонов К. В . Субъективная сторона преступления. Саратов, 1967. С. 82).
, т. е. выраженное в деянии отрицательное отношение к обществу (зачастую в лице потерпевшего), почти всегда составляло необходимый элемент уголовной ответственности по древнерусскому законодательству. Следовательно, есть все основания считать принцип вины одной из его исходных предпосылок.
То же самое можно сказать и в отношении принципа законности.
Законность в теории права определяют как «принцип, метод и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми участниками общественных отношений» 154 154 Афанасьев В. С . Законность и правопорядок // Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. М., 1997. С. 218.
, «систему реально действующего права» 155 155 Витрук Н. В . Законность: понятие, защита и обеспечение // Общая теория права / Под ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород, 1993. С. 527.
. Поскольку такое многоаспектное понятие, как законность интересует нас лишь с точки зрения уголовноправового принципа, его отражения в «системе реально действующего» законодательства, для подтверждения высказанного предположения достаточно доказать наличие в древнерусском обществе и государстве правового законодательства 156 156 См.: Там же.
применительно к двум исходным для уголовного права социально-юридическим явлениям: преступлению и наказанию.
Более чем 400-летнее (ХI – ХV вв.) применение «Русской правды» (имеются в виду обе редакции) 157 157 См.: Российской законодательство Х – ХХ веков. Т. 1. С. 35, 38.
– неоспоримое свидетельство ее реального действия, а обусловленность «Русской правды» принципами справедливости, равенства, гуманизма и вины – не менее весомый аргумент в пользу ее правового характера. А то, что и принципы «Русской правды», и ее применение основывались почти исключительно на реалиях общественно опасного поведения (на конкретных видах преступлений) и социально адекватном воздействии 158 158 Близость родового строя, из недр которого и вышла Древняя Русь, еще неразвившиеся гражданское общество и публичная власть, нелегкие материальные условия жизни населения (по-видимому, порождавшие у значительной его части убеждение в привлекательности имущественных взысканий за всякое причинение вреда), думается, и предопределили в качестве универсального средства наказания денежный штраф в пользу пострадавшего или его родственников. В случаях, как правило, неуплаты штрафа применялась конфискация имущества, продажа должника, а то и членов его семьи, в холопы. Имущественные наказания дополнялись правом заинтересованных лиц на кровную месть.
на субъектов такого поведения (наказании), как раз и доказывает существование предпосылок законности в древнерусском уголовном праве.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу