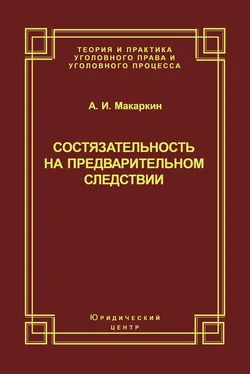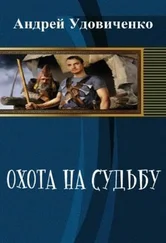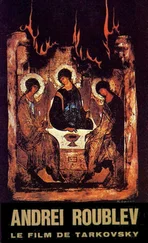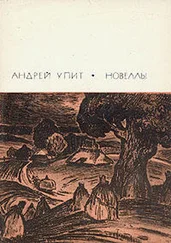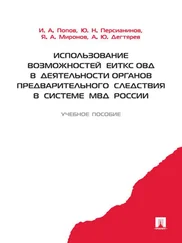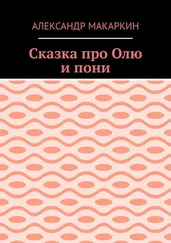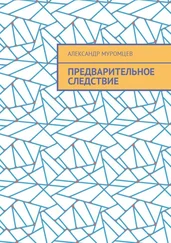Следует полагать недопустимой саму возможность привлечения к ответственности без установления факта вины. Только факт вины может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности. Законодатель поступил верно, закрепив в уголовном законе принцип вины (ч. 1 ст. 5 УК РФ). Момент привлечения к уголовной ответственности, таким образом, соответствует моменту вступления в законную силу решения по уголовному делу, констатирующего факт установления вины лица, привлеченного к производству, в совершении преступления. К таким решениям относятся и обвинительный приговор, и неотмененное постановление о прекращении дела, но лишь по нереабилитирующим основаниям.
Спорным является и вопрос о необходимости привлечения к уголовной ответственности в каждом случае установления обстоятельств, изобличающих лицо в совершении преступления. Это прежде всего проблема выбора между принципами неотвратимости ответственности и целесообразности.
Представляется справедливым разделять понятия уголовной ответственности и наказания. Ответственность, безусловно, шире по содержанию. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям является формой освобождения лица от наказания, но не от уголовной ответственности 122 122 Иное мнение выражено законодателем, Конституционным Судом РФ и некоторыми авторами (см.: ст. 75–78 УК РФ, Постановление Конституционного Суда РФ от 28 октября 1996 г. «По делу о проверке конституционности ст. 418 УПК РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 50. Ст. 5679; Шумский Г. А. Презумпция невиновности и обязанность доказывания на предварительном следствии: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 13–14).
. Это обусловлено тем, что решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, как, впрочем, и все решения о ходе процесса в состязательном судопроизводстве, должны быть судебными. Таким решением официально, от имени государства, объявляется и фиксируется тот факт, что обвиняемый не является невиновным (является виновным), поскольку при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям констатируется факт совершения преступления конкретным лицом 123 123 Божьев В. К вопросу о состязательности в российском уголовном процессе // Уголовное право. 2000. № 1. С. 48; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. П. А. Лупинская. С. 345. – Впрочем, данная точка зрения в литературе разделяется далеко не всегда (см., напр.: Уголовный процесс / Под ред. И. Л. Петрухина. М., 2001. С. 320).
. Уголовная ответственность, таким образом, понимается как юридические последствия определения судом правовой оценки конкретного деяния как преступления, а лица, обвиняемого в его совершении, как виновного . И в этом смысле уголовное наказание, в свою очередь, есть форма уголовной ответственности. Суд, рассмотрев позиции и доводы сторон, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, принимает решение по уголовному делу, чем и оценивает деятельность стороны уголовного преследования с точки зрения того, было ли обоснованным это преследование. При решении вопроса об уголовной ответственности решается вопрос о целесообразности наказания.
Первым шагом на пути ослабления розыскных начал в данной части правовой теории было именно размежевание понятий наказания и ответственности. Следствием этого и стало преобразование сформулированного еще Ч. Бекариа правила о «неизбежности наказания» 124 124 «… Одно из самых действенных средств, сдерживающих преступления, заключается не в жестокости наказаний, а в их неизбежности…» ( Бекариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 308–309); см. также: Зарудный С. И. Бекариа о преступлениях и наказаниях и русское законодательство. СПб., 1879. С. VII.
в межотраслевой принцип неотвратимости ответственности 125 125 Добровольская Т. Н. Указ. соч. С.70; Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Принципы советского уголовного права. М., 1988. С. 128–129; Названова Л. А. О соотношении принципов социалистической законности и публичности в советском уголовном судопроизводстве // Правоведение. 1990. № 2. С. 81.
, который можно понимать и как целесообразность наказания. Таким образом, начало целесообразности не является чем-то принципиально новым даже для российского построзыскного уголовного процесса. Это означает, что целесообразность как принцип уголовного процесса не должна пониматься исключительно в рамках целесообразности уголовного преследования. Так, следует признать целесообразность судопроизводства в качестве нового принципа уголовного процесса, более широкого по содержанию. Именно целесообразность должна заменить в системе правовых принципов принцип неотвратимости ответственности 126 126 См., напр.: Головко Л. В. Принципы неотвратимости ответственности и публичности в современном российском уголовном праве и процессе. С. 61–68; Шестаков Д. А. Понятие преступности в российской и германской критической криминологии // Правоведение. 1997. № 3. С. 109.
. Как представляется, введение принципа целесообразности к тому же позволит решить проблему недостижимости обратной силы уголовно-процессуального закона 127 127 Подробнее об этом см.: Вандышев В. В., Дербенев А. П., Смирнов А. В . Указ. соч. Ч. 1. С. 11–12.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу