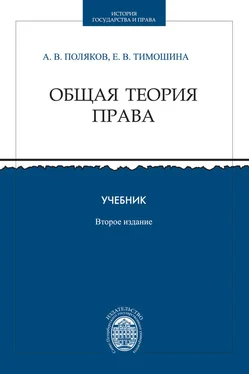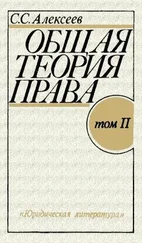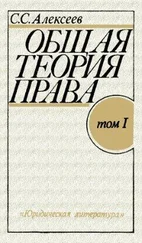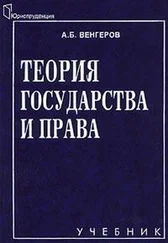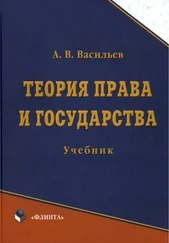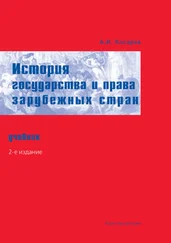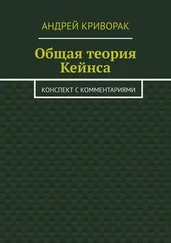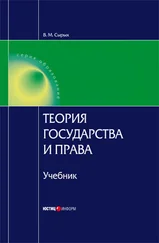Именно социальная оправданностьправовых притязаний,основанных на общезначимых нормах,определяет возникновение социально-психологического механизма их защиты, начиная от самозащиты и заканчивая специальным механизмом государственного принуждения.
Право необходимо связано с принуждением,только это принуждение особого рода. Правовое принуждение имеет психическую природуи интеллектуально-эмоциональное (ценностное) обоснование.Право, рассмотренное как социально оправданные притязания одних субъектов на исполнение другими своих правовых обязанностей, всегда психологически принудительно. Психическое принуждениеесть такое воздействие на сознание субъекта, которое определяет выбор требуемого варианта поведения. Ценностным основанием психического правового принужденияявляется наличие правомерного,социально признанного притязания на исполнение правовых обязанностей.Вследствие этого правообязанный субъект психически переживает связанностьсвоего поведения правомерным требованием управомоченного. Таким образом, правовые обязанностинеобходимо носят психически принудительный характер.Психическое принуждение является специфическим признаком именно правовой коммуникации, в рамках которой нормативно должное не принадлежит свободному выбору, а закрепляется в виде обязанности, исполнения которой можно требовать.
Отличительная черта такого правового психического принуждения – его публично-коммуникативная направленность.Это означает, что управомоченный субъект, требуя от других исполнения соответствующих его праву обязанностей, выступает не только от себя лично, но и от всего общества, установившего и признавшего определенное правило в качестве общеобязательного. Именно в силу этих причин управомоченный вправе апеллировать к обществу и рассчитывать на социальную защитув случае нарушения его прав, даже если формы этой защиты заранее не определены.
Все дальнейшее разнообразие средств принуждения (включая оспаривание, физическое воздействие и т. д.) зависит от конкретной разновидности права, от отношений, в которых оно воплощается, от заинтересованности общества в их поддержании и защите, т. е. от специфики правовых коммуникаций.
Возможность же физического принужденияв праве ограничена и связана в первую очередь с определенными видами правонарушений. Физическое принуждениепредставляет собой одностороннее воздействие на субъекта, которое совершается против его воли,что и отличает его от психического принуждения. Ограниченность физического принуждения в праве выражается в том, что государство не может физически принуждать к соблюдению права, а может лишь пресекать противоправные деяния, карать за их совершение и восстанавливать уже нарушенное право. Однако стимулом правомерного поведения может быть не только угроза наступления нежелательных последствий за совершение правонарушения, но и простое признание социальной ценности поведения, соответствующего праву, а также поощрение за совершение требуемых правовых действий. Следовательно, говорить о государственном физическом принуждениикак сущностном признаке праванельзя, поскольку такое принуждение охватывает довольно узкий круг правовых явлений. Тем не менее в государственно-организованном праве, как в прошлом, так и в настоящем, в качестве эффективного способа защиты широко используется физическое принуждение.
Итак, онтологический статус права,его сущностьи понятие,раскрывается через описание его структуры.Только наличие у социальной коммуникации правовой структуры– взаимной соотнесенности действий субъектов, обладающих коррелятивными правами и обязанностями, вытекающими из социально признанных правовых текстов, – позволяет говорить о существовании праваздесь и теперь.
Таким образом, феноменолого-коммуникативный подход к праву связывает право не с какими-либо конкретными социальными фактами: государством, политической системой, организацией социальной власти, и не с абстрактными ценностями справедливости, свободы, равенства и т. д., а с человекомкак homo communicatius(человеком коммуникативным).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу