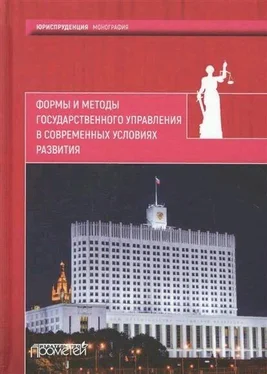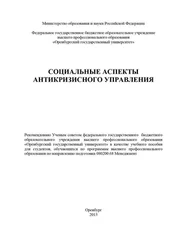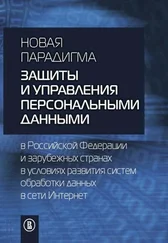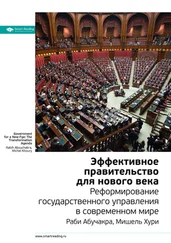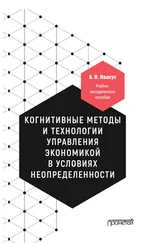Речь идет о своеобразной «переполюсовке» административно-правовых отношений – управомоченный субъект приобретает обязанности, а субъект априори обязанный становится носителем тех или иных прав.
Как первая ласточка не делает весну, так и отдельные примеры не изменяют общую атмосферу государственного управления. Однако общество, находящееся в состоянии управленческого кризиса, вызываемого коррумпированностью госаппарата, засильем бюрократии, неэффективности и контрпродуктивности управленческих процедур, обладает крайне суженными возможностями для маневра в анализируемой области, т. к. опробированные методы во многом себя исчерпали.
В доказательство сказанного обратимся к контролю, рассматриваемому многими экспертами как панацее от всех бед и недостатков управления и, в свою очередь, являющемуся инструментом управления. Притом, что данный институт известен с зарождения государственности в России, он постоянно реформируется, его эффективность предельно низка, хотя страна из года в год финансирует на высоком уровне целое сообщество контрольно-надзорных структур. В частности, в чем причины того, что о многомиллиардных хищениях, иных злоупотреблениях, о неэффективном расходовании государственных средств, о масштабных банковских аферах (от примеров приходится воздержаться – они у всех на слуху) общество узнает исключительно post factum и только тогда, когда похищенные средства осели в иностранных банках на счетах подставных фирм? Рискнем предположить, что не последнюю роль играет то, что органы финансового контроля наделены правом осуществления контроля, но не обязанностью осуществления контроля. За частоколом проверок,(нередко пустопорожних и бессмысленных) контрольно-надзорные органы зачастую «не видят леса» – серьезных злоупотреблений, а иногда и покрывают преступников. Дело в том, что практика привлечения к ответственности должностных лиц органов контроля за упущения, приведшие к тяжелым экономическим последствиям, фактически отсутствует. Между тем, контроль является важной правовой составляющей любой хозяйственной деятельности и, по генеральной концепции, придает ей признак легальности. Отсюда ни одна финансовая операция, не подвергнутая контролю, не может осуществляться, а в противном случае органы и должностные лица контроля, это допустившие, подлежат привлечению к субсидиарной и солидарной ответственности, наряду с непосредственными правонарушителями. Правомерность такой постановки вопроса может подтвердить экскурс в относительно недавнюю историю, во времена существования Стройбанка СССР, полевые учреждения которого предотвращали множество злоупотреблений в инвестиционной сфере, что очевидно, и послужило причиной его ликвидации в середине 80-х годов прошлого века.
Переход на восприятие функций и полномочий органов исполнительной власти в качестве их обязанностей не требует коренной реконструкции наших представлений о механизме государственного управления. В конечном счете, раздел практически всех статутных актов (положений, уставов) органов исполнительной власти, традиционно содержит исчерпывающее перечисление функций органа, которые при ближайшем рассмотрении являются его (органа) обязанностями, тогда как раздел о правах есть перечисление процессуально-процедурных полномочий, которые предоставлены органу для выполнения им своих обязанностей. Далеко не случайно, в языке законодательства о системе органов управления выработана особая филологическая конструкция долженствования, сочетающая в себе как права, так и обязанность, а в какой-то мере и ответственность органа исполнительной власти.
Восприятие соответствующих долженствований в качестве прямых обязанностей органа исполнительной власти перед обществом, а не только перед вышестоящим органом может стать поворотным моментом развития всей системы государственного управления. С одной стороны, управляемые, а равно и все общество, могут получить реальный рычаг воздействия на органы исполнительной власти с целью повышения их эффективности и ответственности за результаты работы. Времена безмерной дискреции, свободного волеусмотрения канули в лету, т. к. деятельность органов управления давно стала непременным элементом хозяйственного механизма и составной частью социального регулирования. Надлежащее отправление исполнительной власти в настоящее время имеет значение неотторжимой функции государства, а организация этой деятельности – предметом правового регулирования, имеющим приоритет над многими другими направлениями деятельности государства. Как отмечает И. Л. Бачило «…первым методом, который реализуется в процессе организации деятельности исполнительной власти, является метод правового регулирования, реализующий важнейшую задачу исполнительной власти – задачу организации деятельности системы в сфере ее компетенции». [80] Исполнительная власть в России, история и современность, проблемы и перспективы развития. М. 2004, с. 83.
Однако нам представляется, что время постоянно смещающее акценты в любой теории, требует расширения роли права в механизме функционирования исполнительной власти. Не только компетенция, но и многие другие элементы построения системы управления стали, становятся или настоятельно требуют материально-правового и процедурно-процессуально правового регулирования. В их числе «встречные потоки» – компетенция органа управления в сопоставлении с правами и обязанностями управляемых субъектов, требующие точной юстировки в целях предотвращения расхождения или даже конфликта правового регулирования, адресованного управляющим и управляемых как субъектов права, находящихся в едином правовом поле. Сюда следует отнести и правовые средства защиты прав и законных интересов реципиентов (адресатов) управленческого воздействия; судебная; защита прав организаций и граждан не должна быть единственной гарантией законности в сфере управления.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу