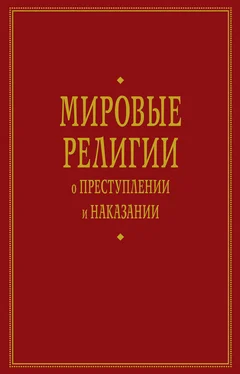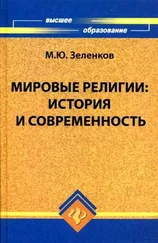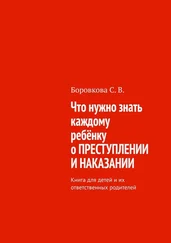Сущность ошибки-неосторожности заключена в неведении относительно нарушаемого запрета, т. е. неосознании опасности деяния, что характерно и для нашего понимания неосторожности: «Если кто… сделает что-нибудь… чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным» (Лев. 5, 17). Однако, как известно, по неведению возможно и случайное причинение вреда, о чем Закон молчит.
Неожиданным на первый взгляд выглядит признание вины не только на момент совершения негативного деяния, но и на момент появления у лица знания о совершении им данного деяния.
Действующий УК РФ не предусматривает случаев, когда, предположим, водитель, сбив пешехода, не замечает этого, а спустя некоторое время, увидев на своей автомашине следы крови и вмятины, услышав от кого-то о происшествии, сопоставив все обстоятельства, приходит к выводу, что он виновен в гибели человека. В УК РФ значение имеет психическое состояние такого водителя только на момент происшествия, но не после него. Ветхий Завет предусматривает такую ситуацию. Так, если кто «прикоснется к нечистоте человеческой… от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен» (Лев. 5, 3). Здесь имеет место перенос вины на момент ее осознания. Это важно в первую очередь для верующего, который, поняв, что сотворил грех, должен с этого момента признать его и очиститься, принести «Господу за грех свой… жертву повинности» (Лев. 5, 6). Однако такой же, по сути, подход применяется и в нашем законодательстве, когда суд, вынеся обвинительный приговор, признает лицо виновным в совершении преступления независимо от того, сознавал или не осознавал подсудимый лично факт совершения им преступления, официально он «осознает» этот факт после совершения преступления, с момента осуждения и признания виновным. Возникает вопрос: что констатирует суд, признавая лицо виновным в совершении преступления, – факт совершения им преступления в целом или только психическое состояние на момент совершения преступления? Представляется, что он термином «виновный» охватывает и то и другое, дает юридическую оценку содеянного в целом, а не констатирует только наличие умысла (неосторожности), что делал и судья Ветхого Завета. Выходит, что мы должны различать понятия вины как умысла и неосторожности и виновности как оценки содеянного в качестве преступления. Возможно, есть смысл снова вернуться к обсуждению оценочной теории вины, которая была в свое время отвергнута.
В Законе, его духовной, религиозной части, встречается и термин «небрежность»: «И сказал Господь Аарону: ты и сыны твои… понесете на себе грех за небрежность во святилище… за неисправность в священстве вашем» (Числ. 18, 1). Это понятие никак не связано с характеристикой вины, оно выражает не более чем пренебрежительное, без должного чувства благоговения отношение к исполнению обязанностей священнослужителя. Но само небрежение рассматривается как грех и, следовательно, как объективный поведенческий акт, что делает данное понятие адекватным понятию виновности.
Неотвратимость наказания.Наказание – неотъемлемый компонент Законодательства Моисея, оно освящено Богом, принято еврейским народом как должное. В противном случае, как представляется, этот народ не мог бы существовать в течение 4000 лет, руководствуясь только законом, имея во главе лишь судей, священников и старейшин.
Наказание – изначально установленное Богом средство воздействия на созданное им человеческое существо. Заключая с Адамом свой первый Завет, Господь предупредил, чтобы он не ел «от дерева познания добра и зла», в противном случае «смертью умрешь» (Быт. 2, 17). Это значит, что уголовное законодательство началось с Божьего установления; первоначальный вид наказания – смертная казнь, и обязательное условие применения наказания – указание о нем в Завете (Законе), т. е. предупреждение о возможности его применения в связи с совершением конкретного деяния. Кроме того, в первом же Завете выделена существенная черта относительно основания применения наказания – свобода воли человека. Господь Бог запретил Адаму есть от дерева познания добра и зла, но не исключил вовсе такую возможность, иначе бы Он не оставил это дерево в саду вместе с деревом жизни, Он предоставил Адаму самому выбирать: быть в согласии с Богом и жить вечной жизнью либо стать независимым от Бога и быть обреченным на смертную жизнь. Адам добровольно выбрал второе.
Поучительно и исполнение наказания: Бог в первую очередь наказывает обольстителя Евы, змея, т. е. Сатану, соблазнившего людей, выступившего в роли подстрекателя, а затем только Адама и Еву. Это пример того, что должно строго наказывать подстрекателей и организаторов преступлений, тех, кто склоняет исполнителей к совершению преступных деяний.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу