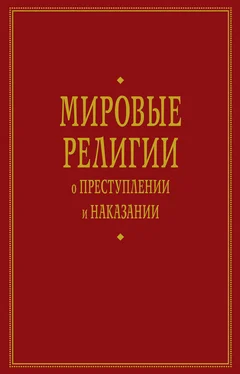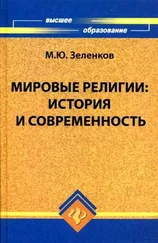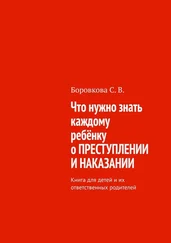В книге Исход встречается еще более странное для нашего понимания выражение «не повинен смерти». Имеется в виду ситуация, когда один ударил другого, и тот не умер, но слег в постель, а потом, излечившись, встал и начал ходить «с помощью палки». В этом случае ударивший «не будет повинен смерти; только пусть заплатит за остановку в его работе и дает на лечение его» (Исх. 21, 19). По всей видимости, речь идет о неумышленном причинении вреда здоровью, влекущем возмещение ущерба. Термин «не повинен смерти» несет особую смысловую нагрузку, он означает отсутствие деяния, достойного наказания смертью. То есть опять следует говорить о вине не как или не только как о психической категории, но как об общей оценке содеянного. В тех случаях, когда законодатель желает придать какое-то значение психической стороне преступной деятельности, он обращается не к категории вины, а непосредственно к умыслу или неосторожности, т. е. тому, что современная теория уголовного права России и уголовное законодательство включают в содержание вины.
Признается только прямой умысел, признак которого выражается терминами «злоумышление», «намерение» и т. п. Косвенный умысел, как представляется, не получил еще признания, он уравнен с неосторожностью; все, что не свидетельствует о прямом умысле (злоумышлении, намерении), суть неосторожность или случайность. В этом отношении характерно описание состава убийства: «Кто ударит человека, так что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял… то Я назначу у тебя место, куда убежать убийце. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника Моего бери его на смерть» (Исх. 21, 12–14).
В приведенной формулировке очевидно противопоставление прямого умысла (в терминах «злоумышлял», «с намерением», «коварно») только неосторожности (или ошибке), ибо «место, куда убежать убийце», – это город-убежище (их было всего шесть), предназначенный для тех, кто совершил убийство неумышленно.
В Законе дается подробное описание признаков умышленного убийства, имеющих криминалистическое, доказательственное значение; руководствуясь ими, можно было установить, действовал ли причинитель смерти умышленно либо неосторожно. Эти признаки определялись, как и сейчас, характером используемого орудия, способом действия, предшествующими отношениями, мотивом и целью: «Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет» (Числ. 35, 16); «Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет» (Числ. 35, 17); «Если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит от руки так, что тот умрет» (Числ. 35, 18); «Если кто толкнет кого по ненависти, или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет… он убийца» (Числ. 35, 20–21). Умысел отсутствует, «если он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла» (Числ. 35, 22–23).
Закону известно и понятие ошибки. Ошибка, однако, категория своеобразная, не равнозначная нашему пониманию ее как психического состояния, исключающего вину. Ошибка, по Закону Моисея, может быть и виновным деянием. Так, в книге Левит читаем: «Если же все общество Израилево согрешит по ошибке… и сделает что-нибудь… чего не надлежало делать, и будет виновно» (Лев. 4, 13). В другом месте читаем в отношении начальника: «…если согрешит начальник и сделает по ошибке… чего не надлежало делать, и будет виновен» (Лев. 4, 22).
Очевидно, термин «ошибка» здесь охватывает два психических состояния: ошибку в собственном смысле слова, как невиновное совершение деяния, и ошибку как неосторожность, на которую указывает приведенное в текстах выражение «чего не надлежало делать». Оно означает, что и общество, и начальник совершили необдуманно что-то, от чего они должны были воздержаться. Это уже ближе к нашему пониманию преступного легкомыслия.
Еще более заметными становятся основания для выделения ошибки-неосторожности в том, как Закон дифференцирует ответственность за вину, допущенную по ошибке, в зависимости от должностного положения нарушителя. За одно и то же деяние священник должен принести из крупного скота тельца (Лев. 4, 3), начальник – козла (Лев. 4, 23), а если кто из народа – козу (Лев. 4, 23). В этом распределении меры ответственности действует принцип «кому больше дано (в смысле обязанностей), с того больше спросится (ответственность)». Священник и начальник в большей степени обязаны помнить и соблюдать установленные правила, с них и больший спрос.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу