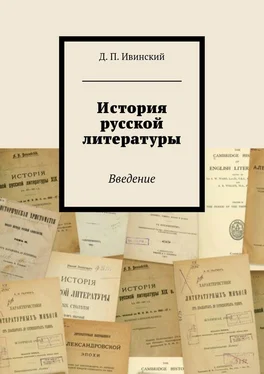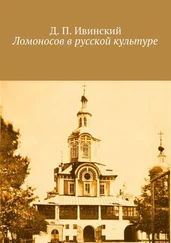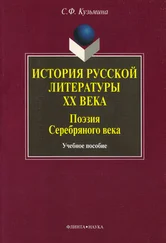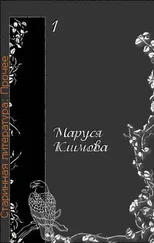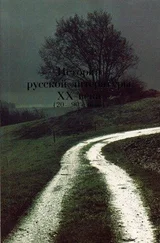Бросающаяся в глаза особенность его книг и статей – обилие цитат, функция которых у Топорова резко своеобразна: они не только и не столько «иллюстрируют» то или иное положение, сколько входят в текст наряду с авторским повествованием, как его равноправный элемент.
Топоров В. Н. Из истории русской литературы. Том II: Русская литература второй половины XVIII века. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Книга 1. М., 2000; Книга 2. М., 2003; Книга 3. М., 2007.
Топоров В. Н. Пушкин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithian’ы: (к постановке вопроса). Wien, 1992. (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderb. 29). См. также: Топоров В. Н. О скрытых литературных связях Пушкина // Пушкинские чтения в Тарту: Тезисы докладов научной конференции в Тарту 13—14 ноября 1987 г. Таллин. 1987. С. 7—17.
Целесообразно подчеркнуть, что подобное понимание межтекстовых / межкультурных отношений имеет мало общего с теориями «интертекста», которые выросли на основе признания той смерти автора, которая была некогда компетентно констатирована Роланом Бартом: позиция Топорова, скорее, полемична по отношению к ним. Ср. постановку вопроса «об особом виде синтетического пространства, представляющем своего рода теоретико-множественное произведение двух „подпространств“ – поэта <���…> и поэтического текста <���…>, – характеризующемся особенно сложной и „тонкой“ структурой, исключительной отзывчивостью к неявному, скрытому, запредельному, сверхреальному, способностью к дальновидению, провидчеству, пророчеству». Поэт и текст неслиянны, но и нераздельны: «автор описывается через текст и текст – через автора; поэт творит текст, а текст формирует поэта <���…>, и любое <���их> изолированное описание <���…> оказывается частичным и неадекватным». Постулирование динамического тождества поэта и текста прямо соприкасается со столь же динамичным тождеством истории и мифа: именно в этой перспективе «устанавливается и онтологическая связь и историческая преемственность (через серию трансформаций) поэта и младшего сына Бога из „основного“ мифа. Как и последний, поэт связан и с Небом, и с Землей <���…>, с будущим и прошлым, с жизнью и смертью. Поэт двигается между этими крайностями <���…>. Происходящее с поэтом во время творения <���…> интереоризируется в текст <���…>. Отсюда сопричастность текста поэту и поэта тексту, их <���…> изоморфность, общность структуры и судьбы <���…>. У текста и поэта – одна мера и одна парадигма. И это – поэтика, наиболее непосредственно и надежно отсылающая к двум пересекающимся „эктропическим“ пространствам – Творца и творения» (Топоров В. Н. Об «эктропическом» пространстве поэзии (поэт и текст в их единстве).// От мифа к литературе. Сб. в честь 75 - летия Е. М. Мелетинского. М., 1993).
О других терминологических словарях XVIII и XIX вв. см., напр.: Хауфман И. М. Терминологические словари. Библиография. М., 1961.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу