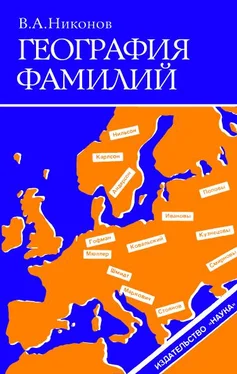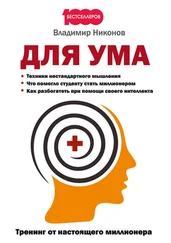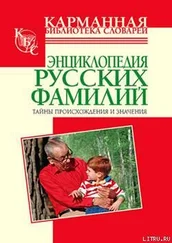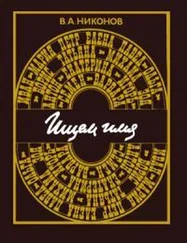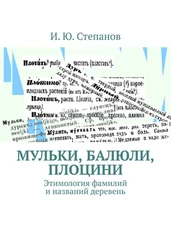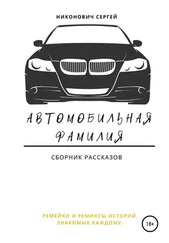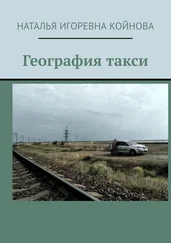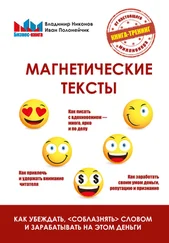‑ицын . Всюду можно встретить фамилии Лисицын, Курицын, но суффикс ‑ица , некогда очень продуктивный, ныне архаичен. А на Севере фамилии от основ, образованных им, в 10 раз чаще, чем где-либо, так как мужские нецерковные имена с этим формантом там нередки и в XVII в. От них — Губницын, Доильницын, Дряхлицын, Коробицын, Наговицын, Репницын, Телицын, Чицын, Шипицын и др. В Шенкурском у. в 1897 г. зафиксировано 1556 носителей фамилии, образованной по этой модели [99] Архив Архангельской обл. Ф. 6.
.
‑утин . Фамилии этой модели «северны», как и на ‑ицын : в 1887 г. — в Онежском у. — Орютин, Панютин, Парутин, Торутин; в Шенкурском у. — Кошутин, Малютин, Лешутин; в Мезенском — Личутин. Имя Лабута у ненцев привела Л. В. Хомич [100] Хомич Л. В. Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. Л., 1976. С. 119.
; в документах XVI в. на Севере встречаем имена Волдута, Кошута, Офута; А. А. Шахматов указывал на формы Машута, Мишута, Федута в двинских грамотах XV в., образованных от канонических личных имен [101] Шахматов А. А. Исследование о двинских грамотах XV в. СПб., 1903. С. 120.
. Высказанное мной предположение о приходе суффикса из польского языка (малютка, личное имя Малюта) [102] Никонов В. А. Поиски системы // Этимология. М., 1963. С. 226.
доказано, но в польском он не первичен, а, очевидно, заимствован из литовского. На Север формант ‑утин принесен не через Москву, а через Псков и Новгород.
Из многих других региональных моделей в основах фамилий укажем на такие, как ‑ихин в с. Шишкеев (Мордовская АССР) — Волчихины, Глазихины, Гусихины, Мочалихины, Муравьихины, Шутохины; отметим, что рядом в большом с. Гумны нет ни одного человека с фамилией, образованной по такой модели; фамилии с формантом ‑ачев встречаются в с. Трофимово Орловской обл.: Климачевы, Грудиничевы, Головачевы. Фамилии изобилуют производными формами личных имен ( ‑агин , ‑ыгин , ‑илин , ‑ухин , ‑ушин , ‑аков , ‑анов , ‑имов , ‑ишев и др.) — богатейший источник по истории русского словообразования.
Понятна региональность проникновения форм иноязычного происхождения. Шире и дальше всех продвинут составной формант ‑енков из украинского (ср. рус. ‑енок : львенок, утенок), господствующий во всех восточных областях Украины и Белоруссии. Его размещение превосходно показали картографически и статистически Ю. К. Редько по Украине [103] Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища. Київ, 1966.
и Н. В. Бирилло по Белоруссии [104] Бирилло Н. В. Белорусская антропонимия. Минск, 1969.
, но, по-видимому, работая независимо друг от друга, они упустили важную черту: формант ‑енко имеет общую восточную границу, никак не связанную с современным распространением обоих языков.
Прямое продолжение этого — распространение фамилий ‑енков в РСФСР, дооформленных суффиксом русских фамилий (есть и немало ‑енко ). В Псковской обл. этот поток шел с юга, поэтому в южных районах они чаще: в Куньинском (1930 г.) они охватывали 5% населения (Власенков, Гавриленков, Павлюченков, даже Поварищенков и Шляхтенков). Совсем не случайно пскович по рождению Вениамин Каверин дал героине своего романа «Два капитана», коренной псковитянке, фамилию Власенкова. Еще больше фамилий этого типа в Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской областях, и даже в Орловской и Курской они составляют 1—4% населения, Широко распространились они и на юго-восток — через Тамбовскую и Ростовскую области на Саратовскую, Волгоградскую и Краснодарский край. Характерны колебания формантов: в документах Идрицкого р‑на Псковской обл. наряду с ‑енков обычны и ‑енок (Борисенок, Егоренок, Сергиенок, Финаженок и др.); в документах 1914 г. по Воронежской губ. заурядны записи: Евдокия Репченко покупает землю у Ивана Репченкова [105] ЦГИА. Л. Ф. 1290. Оп. 7. №85. Л. 115.
, Михаил Резниченков — у Павла Резниченко [106] Там же. №101. Л. 294.
.
Из иного источника проникла в Псковскую обл. модель фамилии на ‑айлов (например, Пошибайлов в Дедовическом р‑не), а именно из литовского языка (ср. Гржимайло).
На Вятке и Каме нередки фамилии на ‑егов , ряд примеров привели Г. А. Архипов и А. С. Кривощекова-Гантман [107] Архипов Г. А. Фамилии, образованные от удмуртских слов // Вопр. финноугроведения. Саранск, 1975. Вып. 6; Кривощекова-Гантман А. С. Фамилии как источник истории языка и его носителей // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. Пермь, 1972. С. 250.
. В них древен суффикс пермских языков (удмурт. ‑ег , коми ‑ог : Гачегов — гачег , «бобр»; Мошегов — мош , «пчела»; Шудегов — «счастье»; Рочегов — роч , «русский»; Чечегов — чечег , «трясогузка» и др.), относимый Б. А. Серебренниковым к общеуральскому суффиксу отглагольных имен [108] Серебренников Б. А. Историческая морфология пермских языков. М., 1963. С. 154, 167.
. Суффикс давно мертв, и основы многих фамилий этой модели неизвестны.
Читать дальше