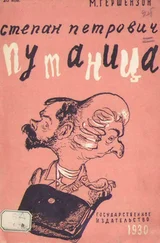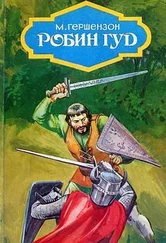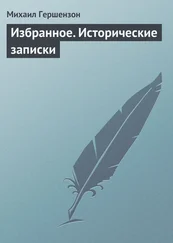– Эй, пошел, ямщик!.» – «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
…………………………
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Так же как в «Бесах», бес метели водит Владимира по полю и кружит по сторонам, толкает в овраг измученного коня, встает небывалой и обманчивой рощей, долго водит по лесу и с хохотом выпускает на неведомую равнину, «устланную белым волнистым ковром»; и Владимиру тоже, как тому путнику,
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!
и он тоже с лошадью выбиваются из сил…
Но эта разрушительная цель достигнута – Владимир не доедет во-время, а в то же время метель исполняет и вторую, творческую половину работы. В этот самый вечер офицер Бурмин из соседней усадьбы спешил в Вильно, в свой полк; судьба-метель, точно одной рукой отстраняя Владимира, другою ведет некоего Бурмина навстречу Марьи Гавриловны. В этом месте рассказ Пушкина достигает полной силы; скупость строго обдуманных подробностей напоминает здесь «Пиковую даму». «Приехав… на станцию поздно вечером, – рассказывает впоследствии Бурмин, – я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда». С удивительным мастерством описана дальнейшая сцена – естественность появления Бурмина среди ожидавших в церкви, гипнозом легшая на него самого, и легкая, роковая его одержимость, когда он точно во сне или понуждаемый тайной силою стал рядом с Марьей Гавриловной пред аналоем (он вспоминает: «непонятная, непростительная ветреность»…). – Его появление и было естественно, – больше того, их венчание, столь случайное с виду, как редко бывает, было в высшем смысле закономерно, необходимо, естественно, потому что они были «суженые», судьбой предназначенные друг для друга, как и обнаружилось три года спустя, когда, встретившись, они искренно полюбили друг друга.
Может быть, писав этот рассказ, Пушкин думал: жизнь-метель редко бывает так добра, но бывает.
До сих пор никто не мог сказать, что разгадал смысл этой странной поэмы. Первая треть ее занята длиннейшим рассуждением о стихотворных размерах, с полемическими выпадами против тогдашней журнальной критики; остальные две трети – прекрасное повествование, сюжет которого, однако, чрезвычайно странен. Непонятна связь между тем вступлением и самой повестью, но еще более непонятно, для чего Пушкин вздумал тщательно излагать в великолепных стихах пустой анекдот – историю о том, как вновь нанятая кухарка в мещанской семье оказалась переодетым мужчиной. Из всех предложенных объяснений наиболее уверенный вид имеет объяснение В. Я. Брюсова. Он видит в «Домике в Коломне» одно из проявлений общей политики Пушкина. Пушкин, по его словам, «старался перенять все формы, выработанные на Западе, словно спешил проложить для новой русской литературы просеки по всем направлениям»; в ряду этих опытов «своим «Домиком в Коломне» Пушкин хотел усвоить русской поэзии тот род шутливой романтической поэмы, который, в те годы, имел особенный успех в Англии и во Франции». В. Я. Брюсов очень хорошо описывает этот род тогдашней литературы и утверждает, что Пушкин намеревался дать русским читателям такую поэму по всем законам этого стиля, как он их мог проследить в своих образцах – в «Беппо» Байрона и «Намуне» Мюссе. «Все три поэмы, Байрона, Мюссе и Пушкина, написаны строфами. Общий тон во всех трех один и тот же: легкой шутки; ко всему, чего касается рассказ, авторы относятся с насмешкой, но тем большую силу получают отдельные замечания, сказанные серьезно и грустно. На каждом шагу авторы прерывают свой рассказ то вводными замечаниями, то длинными неожиданными отступлениями», и т. д. Пушкин, по мнению В. Я. Брюсова, в точности придержался этих правил, у него налицо все, что полагалось дать в подобной шутливой поэме, – далекие отступления, интимные признания, лирика, легкая болтовня, и пр. К этому же обязательному составу, так сказать, относится и рассуждение Пушкина о стихе – то странное вступление к рассказу. По хрии полагалось наполнить первую половину поэмы отступлениями, и вот каждый поэт «отступал» сообразно своему национальному характеру: Байрон рассуждает о свободе печати, о парламентских прениях, о Habeas Corpus, у Мюссе все отступления вращаются около вопросов любви, – внимание Пушкина почти исключительно занято вопросами литературы: «горестное свидетельство, как больно ощущал он ту травлю, которую предприняли против него в те годы критики и которую он старался презирать» {80}.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу