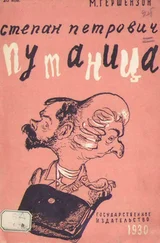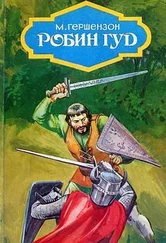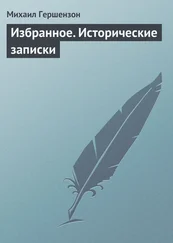31 августа 1830 года Пушкин выехал из Москвы в Болдино. На душе у него было тяжело, смутно, тревожно, как, может быть, еще никогда. Пред самым отъездом из Москвы будущая теща сделала ему сцену, наговорила ему грубых оскорблений – и он счел долгом вернуть Наталье Николаевне ее слово. Да и все три недели, проведенные им в Москве, были, несмотря на его влюбленность, настоящей пыткой для него. Будущая теща мало привлекательная дама {74}; ее снисхождение к нему – и плохо скрываемое чувство, что к нему снисходят; ее настояния и укоры относительно его денежных обстоятельств, и беспрестанные разговоры о деньгах, о приданом; чванный, разорившийся дедушка – Гончаров {75}, к которому пришлось ездить на поклон в Калужскую губернию, и которому приходилось писать письма вроде следующего: «Судьба моя зависит от Вас; осмеливаюсь вновь умолять Вас о разрешении ее. Вся жизнь моя будет посвящена благодарности» {76}– все в надежде на приданое для Натальи Николаевны, по настоянию будущей тещи; густой сонм гончаровских тетушек и бабушек, судачащих о его любви «на своем холопском языке», радостно подхватывающих московские сплетни о нем; письма к Бенкендорфу, по требованию «дедушки», о казенной ссуде ему без всякого основания, о какой-то медной статуе, продажа которой будто бы должна дать сорок тысяч на приданое; и действительное безденежье, и страх пред будущим, еще более тяжким безденежьем с молодой избалованной женой, – страх вообще пред семейной жизнью… «Милый мой, – писал Пушкин Плетневу в самый день отъезда из Москвы, – расскажу тебе всё, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери – отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения – словом если я и не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подходит. Это любимое мое время – здоровье мое обыкновенно крепнет – пора моих литературных трудов настает – а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем бог весть когда. Всё это не очень утешно. Еду в деревню, Бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского. – Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Чёрт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостию, которой обязан я был Богу и тебе. – Грустно, душа моя, обнимаю тебя и целую наших» {77}. В другом письме к тому же Плетневу, месяц спустя, Пушкин яснее излагал причины уныния, владевшего им в день отъезда: «Вот в чем было дело: теща моя отлагала свадьбу за приданым, а уж, конечно, не я. Я бесился. Теща начинала меня дурно принимать и заводить со мною глупые ссоры; и это бесило меня. Хандра схватила [меня] и черные мысли мной овладели» {78}.
Он ехал с тяжелым сердцем – вступить во владение Болдином, которое ввиду предстоящей женитьбы выделил ему отец, и писать, так как наступала осень и верно просто для того, чтобы еще раз вырваться на свободу, пожить с самим собою.
Первые его впечатления в Болдине были двойственны. Во-первых, он узнал, что 200 душ, которые отдавал ему отец, составляют вовсе не отдельное имение, а часть деревни из 500 душ, и что, следовательно, ему придется затеять долгую и скучную волокиту раздела. Кроме того, обнаружилось, что в Псковской губернии холера и открывают карантины, что должно было очень затруднить ему возвращение в Москву. Зато деревенское уединение, и тишина, и свобода подействовали на него благотворно; он писал об этом Плетневу и радовался просыпающемуся вдохновению.
Сколько нам известно, он впервые взялся за перо 7 сентября: отыскал или нашел невзначай старый листок, еще 1824 года, из Михайловского, – на котором был перебелен «Аквилон» – и выправил его, а внизу подписал: «Болд. 7 сент.» Это стихотворение, возникшее когда-то из других чувств и мыслей, теперь опять отвечало его настроению.
Зачем ты, грозный аквилон,
Тростник болотный долу клонишь?
Зачем на дальний небосклон
Ты облако столь гневно гонишь?
Аквилон – судьба, он сам – тростник; и воззвание, дышащее надеждой:
Пускай же солнца ясный лик
Отныне радостно блистает,
И облаком зефир играет,
И тихо зыблется тростник.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу